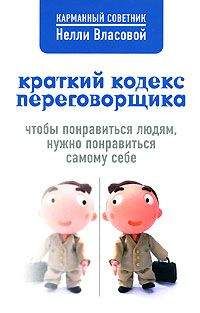Нелли Федорова - Дом на миндальной улице
Он не первый раз называл меня этим именем. Мне оставалось только поверить ему, что я та, кем он меня считает. Это могло быть правдой. Когда он рассказывал о нашем общем детстве в те далекие времена, я чувствовала что-то вроде отзвука, легкой вибрации внутри. Я не чувствовала протеста. Но и ничего, что могло бы подтвердить это. Никаких снов, никаких воспоминаний, никаких ассоциаций с именами и местами, о которых он говорил. За все это я чувствовала укор, потому что он верил, а я… И да и нет. Мне ничего не приходило на ум, когда он вспоминал что-то общее между нами. Но я узнавала его, чувствовала тепло в его словах, знала, что ему дорого и через это его воспоминания поселялись во мне с лаской и щемящей тоской. Я любила людей, которых он любил, и не чувствовала, что это неправда, хоть и не могла их вспомнить. И каждый раз, когда он называл меня так, мне хотелось сказать ему, донести как-то, что мне не все равно, что даже если я не могу вспомнить, это не меняет того, как я отношусь к нему. И уж точно не считаю, что он сумасшедший.
В конце концов многие сумасшедшие намного здравее умом, чем те, кто считает себя здоровым.
Я слезла с кресла, подошла к окну, прислонилась к косяку. Изблизи мне стало лучше видно его лицо, упавшие на плечи волосы, где прятались пара амулетов и оберегов, маленькую серьгу в левом ухе, как носят пираты или эосские цыгане. Осмелевший ветер шевелил тонкую ткань его хитона. Аэринея был вельможей, аристократом, привыкшим к роскоши, но при этом одевался он всегда просто, едва ли не небрежно. Мы как-то разговорились об этом, он убеждал, что умеет одеваться помпезно, когда вынуждают обстоятельства. «Бывало, – оправдывался он, – что приходилось на празднество одеваться, как капуста. В иные времена столько приходилось на себя натягивать…» «Подумать только – штаны и рубашку,» – смеялась я. «Ну-ну, – с чертиками в глазах поддакивал он, – все же больше». «Ну хорошо, еще и сапоги», – дразнила я, а он смеялся и смотрел на меня, как кошка на своих дурачащихся котят.
«Прости, – извинилась я. – Я ничего не могу вспомнить. Не потому, что не хочу.» «Я знаю, – я не видела, но в его голосе была улыбка. – Это все равно ничего не изменит. Просто интересно…» С улицы донесся протяжный звук, встревоживший меня. Аэринея заметив мой испуг, выглянул на улицу. Звук повторился снова. «Кого-то бьют?» – меня не покидала тревога за того, кто жалобно скулил там, внизу. Сразу пришли на ум те истории, о которых говорила Фелисия, о растерзанных людях, о замученных в ямах, пропавших и затравленных зверями. Я с ожиданием посмотрела на Аэринея, будто он мог чем-то помочь. Его ответный взгляд был более, чем выразительным, чтобы я поняла свою ошибку. Мне стало очень стыдно, я опустила голову, хорошо, что он не видел в темноте, насколько мне неловко. «Ничего, бывает,» – он мягко улыбнулся. Стон снова повторился, яснее, стеснение все нарастало, я оглянулась, будто ища, где в этой маленькой комнате можно спрятаться, пробормотала себе под нос: «Так неудобно получается, будто нарочно подслушиваешь…» Он обернулся ко мне, с любопытством и долей снисхождения в глазах, тихо спросил: «Хочешь, я уйду?» «Почему? – мне совсем не хотелось, чтобы он уходил, я слишком дорожила его обществом, чтобы прогонять его из-за каких-то вызывающих звуков, которые перешли уже в дуэт. – Хотя, если ты устал, то иди. Тебе идти в Сенат, не мне. Мы уже договаривались…» (Мы действительно договорились еще в начале наших ночных бесед, что он отправится спать, как только почувствует усталость, так как я не желала, чтобы наша болтовня, не приносившая ничего, кроме обоюдного удовольствия, шла во вред его работе). Чертов стон из темноты был таким дерзко-громким, что я невольно замолчала. Аэринея, все так же созерцавший крыши, сдержал едва обозначившуюся улыбку, сдержанно объяснил: «Не устал. Я прекрасно высыпаюсь под бормотание твоего мужа. Просто подобные… звуки имеют определенное воздействие, и я подумал, что ты…» «Я умею держать себя в руках!» – как можно грубее ответила я и тоже принялась изучать крыши. «Я тоже,» – тихо заметил он и мы надолго замолчали, невольно слушая пыхтенье и стоны из недр города. К первому дуэту, видимо раздразненные, присоединились еще два голоса, менее темпераментные, но лучше слышимые. «О чем думаешь? – пошевелился Аэринея и, так как я не ответила, необидчиво заметил. – Не завидуй, – я вспыхнула и обернулась к нему, выискивая какую-нибудь колкость. – Нечему завидовать, – его голос успокаивал. – Тебе это напоминает только о чем-то романтичном, правда? Если не о шелковой постели, то об обоюдной любви, – и все-таки в его голосе был этот издевательски дразнящий смешок, который так и взывал к словесным поединкам. – Ты бы удивилась, если б знала, насколько это отличается от того, о чем ты думаешь». Он снова ушел в себя и в крыши, а я дулась оттого, что он смеет надо мной подтрунивать. Я кашлянула, чтобы привлечь его внимание и, насупилась: «Все же я была замужем…» Краем глаза я уловила очередную сдержанную улыбку, а квартет тем временем менял тональность и темп. «Определенное воздействие» сказывалось. И, если Аэринея его никак не выказывал, то я была взволнована и не могла никак взять себя в руки. Особенно досадным было то, что он это видел. Или чувствовал. Я даже подумала, что лучше бы ему и вправду уйти, чтобы не видеть, как я теряю самообладание. Он оторвался от окна, потянулся ко мне, нашел рукой мой локоть, примирительно подергал за рукав: «Эй, ты обиделась? Ну прости… Я же вижу, что тебя это смущает. Наверное, я просто циник, но я на своей шкуре знаю, что этот мир не просто груб, а скотски груб. Я не ошибусь, если скажу, что за перегородкой из глины и щебня, если не за простой ширмой в той комнате лежат еще пара их детишек, какая-нибудь родня, братья-сестры. Что нелепо даже упоминать о гигиене после жаркого и тяжелого дня. И меньше всего я бы предположил, что все это результат большой и обоюдной любви. Скорей уж случайно задранной юбки…» «А бывает иначе? – неожиданно для самой себя спросила я. – Если, конечно, оставить в стороне божков и красные свечечки». После какой-то секундной паузы мы оба расхохотались. В подворотне заворчала собака, где-то с ругательствами захлопнулось окно. На стене мгновенье держался отблеск далекой грозы, ветер шевельнул занавеску. Я подавила стеснение, спросила, все же несколько запинаясь: «Феликс, а мы с тобой… были близки? Когда-то в прошлом?» Он шевельнулся, как оправляющая перья птица, вздохнул: «Мы всегда были близки. Ближе, чем можно представить… Порой мне казалось, что мы знаем друг друга лучше, чем сами себя. Конечно, бывало, что мы и ссорились, но никогда так, чтобы разочароваться или потерять доверие. Эта связь весьма крепка, наверное, это единственная вещь во всем мире, в которой я уверен безоговорочно. Ее не может разорвать даже время, как ты видишь. А физическая близость… рождает много иллюзий, необоснованных предположений, нелогичных связей, она ничего не дает, ничего не скрепляет. Ничего не доказывает. Просто приятный дурман, который на какое-то время отключает голову, как вино или наркотик. Так разве к этому можно относиться серьезно? Ценно доверие, ценна доброта, но никак не возможность владеть чьим-то телом». «Но говорят, это приятно, – предположила я. – Что некоторые рискуют многим ради одной возможности…» «Кто-то говорил, кажется, недавно о ложных ценностях? – ехидно заметил он. – Я знал женщин, для которых вся жизнь была прелюдией к близости. Которые разворачивали тысячи шелковых сетей, влекли к себе тысячами изысканных способов, играли тысячи разнообразных ролей, маня, как диковинные птицы. И все ради момента, чтобы сказать – ах, я отдаю тебе все вот это, владей и распоряжайся. Ты просыпаешься наутро возле нее и видишь полные глаза ожидания чего-то сверхъестественного, планов на оставшиеся дни жизни, и хорошо, если так, а не полные укоров и реплик вроде „ах, это была моя минутная слабость, я так сожалею…“ – он тихо рассмеялся, невидимый в темноте. – Ты понимаешь, что кроме сетей и приманки, которую ты уже изведал, больше ничего нет. Через какое-то время эта потрепанная ромашка приедается, в ней не осталось ничего, кроме горькой голой серединки. И ты уходишь, страдая и испытывая угрызения совести, – патетично закончил он, на мгновенье вспышка далекой молнии осветила его тонкую фигуру. – А были такие, немногие, со вкусом терпким и пряным, как дорогое редкое вино. Которые были как роза или ирис, завернуты в лепестки своего мира так плотно, что до них нельзя было добраться, их суть ускользала, когда ты верил, что обладал ею. Ты закапываешься в этот душистый цветочный ворох, – с чувством и нежностью говорил он потемневшим крышам, – ты ищешь все глубже, но так и не познаешь ее до конца. Она может быть в твоих руках податлива и неприкрыта, как младенец, но не она принадлежит тебе, а ты ей. Душу такой вкусить невозможно…» И он покачал головой будто в подтверждение своих слов. Снова ослепительно полыхнуло, уже ближе, заиграло, заметалось на стенах вереницей всполохов, резким, угрожающим светом. «А как же любовь? – спросила я. – Ты в нее веришь? Встречал?» «А ты?» – легкая ирония из темноты. «Нет, не верю, – мотнула головой я. – Поэтому спрашиваю у тебя. Может, ты когда-то видел или знал». «Мир несовершенен, а от любви требуют совершенства, – неохотно заговорил Аэринея. – Точно так же, как со счастьем. Или с Раем и адом. Каждому свое – одним довольно пылких взглядов и горячих ночей, другим довольно привязанности и терпимости, третьим нужно попасть душой в душу. Любовь – самое размытое и размазанное слово, то ее притягивают за уши, обещая каждому в жизни, то возносят в идеалы как недоступное и единицам чувство. Потрепанная, затасканная любовь, в чье имя совершались самые глупые и самые благородные поступки, оправдываясь которой совершали самые жестокие и чудовищные преступления… Просто слово, за которым скопилось столько имен и значений, что оно стало пустым звуком. Все ее ищут, подразумевая каждый свое, и не довольствуются малым, ища совершенства». «Некоторые полагают, – пошутила я, – что любовь рождается из близости. Или наоборот». «Некоторые полагают, – передразнил он мой тон, – что мыши родятся из грязного белья, а дети – от поцелуев». Мы снова рассмеялись. «От всего на свете устаешь со временем, – пояснил Аэринея. – От доказательств любви, долга, от достижений каких-либо целей, ведь в конечном счете от человеческой жизни практически ничего не остается, исчезают недолговечные плоды его рук, уходят те, ради кого совершались поступки, услуги, долги. Устаешь от ролей, которые играешь. Остаешься в пустоте, в которой хочется одного – понимания. Сочувствия. Оба этих чувства – не пустой звук, они не рождаются из поддакивания или примерки на себя жизненных позиций. И ни в коем случае не из отождествления себя с другим, как того приписывают любви. Я знаю, что ты меня понимаешь, Минолли».