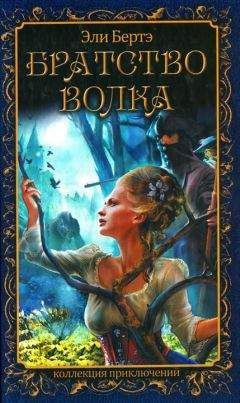Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
Непременно свяжется, но потом, после того, как побывает на месте, после того, как поймет, стоит ли возиться с этим делом, а значит, и с проводницей.
Вышел он на голую бетонную плиту, посреди которой торчала лавка, изрезанная письменами, да покосившийся столб с бледным расписанием. За лавкой начиналась узкая тропинка, уходившая в серо-мглистый, недоброго вида ельник.
Не по себе стало, неуютно, будто следят за тобою, идут по пятам, мягко ступая лапами по сырой подстилке, того и гляди, догонят, ударят в спину, сбивая на сырую землю. А после, позволив перевернуться, но не позволив подняться, сядут на грудь да оскалятся: попался, охотник? Подставляй горло.
Ощущение было до того мощным, что Блохов достал пистолет. Он понимал, что глуп и нелеп, что сейчас в лесу безопасно, что тот, кто прежде шел по тропинке, выбираясь к лавке на перроне, тот не знает про Блохова. А значит, не следит. И вообще вряд ли так скоро придет на место.
Зверь. Вот именно, он, этот пока еще безымянный человек, не являлся человеком в том смысле, который вкладывали в это слово. Он другой, как и Никита, только в отличие от Блохова та инаковость ведет к смерти.
Постепенно чувство близкой опасности ослабевало, сам лес светлел: расступались ели, все больше попадалось низеньких молодых осинок с седоватой от росы корой, светлых берез, уже украсившихся сережками, да клочковатого кустарника, который недели через две распустится листвой, протянется зеленым валом вдоль тропинки. А сама тропинка подсохнет и будет пылить под ногами.
Сейчас же под ногами чавкало, а тропинка, выбравшись на опушку леса, и вовсе потерялась среди темных лужиц да распаханной сырой земли. Чуть дальше, за полем, смутно виднелись разноцветные домики, и Никита после недолгого колебания шагнул в грязь.
Когда спустя пятнадцать минут, изрядно вспотевший и по колени измазавшийся в грязи, он добрался-таки до забора, шкура моментально полыхнула зудом. Стоп. Не прямо, но вдоль, по краю кованой оградки, присматриваясь, выискивая что-то, чего нет.
И есть. Калиточка. Служебная, как пить дать. Почти незаметная, потому как вплетена в узор кованой решетки, на прочных петлях и ржавом крючке, выбить который секундное дело. Никита и выбил.
Открыл. Стал на границе, между полем и пансионатом, закрыл глаза, пытаясь представить, как это было. Тот, другой, тоже не сразу решился войти, ходил кругами, точно волк у овечьего стада, ловил запахи и звуки, примерялся, а после, приняв решение, шагнул на дорожку. Именно на дорожку, а не на клумбы – он знал, что на камне сложнее оставить след.
Он точно знал, куда идет.
Ну конечно! Жертва была предопределена. Жертва чем-то привлекла волка... чем? Где они познакомились? И как? И почему волк решился ударить именно здесь, не стал дожидаться, когда девушка покинет пансионат? Она бы шла домой по полю. На поле пусто. А за полем лес. В лесу ему было бы удобнее, ни опасности случайного свидетеля, ни необходимости торопиться. И тело можно убрать, пополнив вереницу без вести пропавших.
– Мужчина? Мужчина, что вы тут делаете?! – визг ударил по ушам, оглушая и выдергивая из плавного течения мыслей. – Сюда нельзя! Я охрану позову! Я...
– Милиция, – рявкнул Блохов, злясь на себя за то, что не сдержался, и на толстую, неряшливого вида бабу, заслонившую проход. – А вы кто?
– Милиция? Милиция... – Лицо ее менялось, теряя гнев и полнясь любопытством. – А уже ваши приходили. Уже спрашивали. Вы из-за Сенечки? Бедная она, бедная... мы все думаем, как это? Тут же леса-то пустые, городские леса, а такое горе.
– Знаете, они сказали, что это был медведь. Или лев. Или какой-то другой хищник. – Директор «Последней осени» нервно стряхнула пепел в крохотную рюмку, служившую пепельницей. – Что рядом где-то цирк-шапито стоял, что, наверное, оттуда сбежал, но вот...
Не верила она. Наверное, никто не верил этой безопасной, в общем-то, версии, и оттого сочиняли собственные, сдобренные фантазиями и псевдонаучными фактами, родом из «очевидного-невероятного». Но не Никите судить. Ему слушать. Разглядывать чуть одутловатое, строгих черт лицо директрисы. Высокий лоб, жесткий подбородок и темные усики над верхнею губой. Кокетливая родинка-мушка выглядывает из-под слоя пудры, а бледные тени собираются в морщинках век.
– Все версии должны проверяться, – обтекаемо ответил Никита. – И спасибо за чай. Так все-таки, как это случилось?
– Никак. – Окурок нырнул в стакан, зашипел, расползся под жесткими пальцами. – Я имею в виду, что свидетелей не было. О свидетелях меня уже спрашивали. Господи, ну кому она нужна? Бестолковый, но по сути добрый человек, у которого на руках муж-алкоголик да сестра-инвалид! Это... это просто уму непостижимо!
Ей не шли эмоции, они диссонировали с бесстрастным, неподвижным лицом, которое начинало походить на маску.
– Был вечер, – выдохнув, начала директриса. – Ужин. У нас заведено, что персонал питается вместе с пациентами. Из одного котла, так сказать. Это помогает избежать воровства да и является дополнительным фактором социальной защиты трудящихся.
При Союзе ее бы оценили. Доверили бы пост и трибуну, с которой можно было бы выступать с речами, убеждая народ в правом деле мировой революции. Гладко говорит, четко, информативно.
– Во избежание ситуации, когда все пациенты остались бы без присмотра, ужин проходит в несколько смен. Анастасия, Сеня, приписана к последней. К этому времени уже смеркается, но у нас фонари. Мы заботимся о наших подопечных. Обо всех.
– И что дальше?
– В тот вечер был туман. Очень густой, я еще подумала, что, возможно, стоит остаться на ночь, дороги-то здесь не ахти, а в тумане легко можно в аварию попасть.
Интересно, какая у нее машина? Иномарка, конечно, узкая, хищная, со скрытой стервозностью.
– Но я уехала. К сожалению. А с полдороги меня развернули. Сообщили. Это Циля скандал подняла, Сенечкина подопечная. Она кричала, что Сенечка не вернулась, что ее убили и... оказалась права.
– Может быть, она что-то видела?
«Видела-видела, – согласилась шкура, разливаясь зудом по рукам, – или просто знает. Спроси, Блохов, не прогадаешь».
– Помилуйте. – Директриса выбила новую сигарету. – Что она могла видеть? Она не в состоянии из дому выйти, это во-первых. А во-вторых, у Цили налицо возрастные изменения личности.
– Склероз, что ли?
– Скорее слишком бурное фантазирование, при том что для нее ее собственные фантазии являются реальными фактами, тогда как для нас с вами... – Развела руками, чуть тронув широкий ободок обручального кольца. Новенькое совсем, сияет желтизной, внушает надежду на то, что и стервы бывают счастливы.
– Но вы не станете возражать, если я с ней поговорю?
– Как вам будет угодно.
Никита шел по тропинке, с каждым шагом отставая от провожатой – бледненькой сестрички в зеленом форменном платье, поверх которого была наброшена вязаная кофта. Каблучки ее глухо цокали, натыкаясь на камни, плечики вздрагивали, а на тонкой шее пульсировала жилка.
Сзади он напал. Темно. Туман. Поднос в руках. Беспечность – в «Последней осени» безопасно – и все-таки инстинктивное стремление поскорее добраться до дома.
Мой дом – моя крепость.
До крепости дойти не позволили. Он некоторое время шел... просто шел, присматриваясь, выжидая, пока огни столовой окончательно не потеряются в тумане. А потом прыгнул, сбивая на землю. И рот заткнул, чтобы не кричала.
И вырвал гортань, и смотрел, как жертва захлебывается кровью.
– Сволочь. – Старуха сидела в кресле, кутаясь в цветастый плед. – Он хитрая сволочь. Решил меня довести. Мстит. Думает, испугаюсь. А шиш ему! Шиш!
Она ткнула Никите под нос тугой кулачок.
– Не боюсь. Щенком не боялась и теперь не боюсь... убийца! Танька, пить дай! Танька!
Палка постучала по стене, едва не сбив фотографию.
– Сенька тоже дура ленивая, но Танька хуже. Танька меня не слушает. Танька думает, что старая Циля совсем ума лишилась, а это они все безумные, если не видят того, чего и не прячут. А ты другой. Мой Йоленька тоже другим был, светлый, добрый мальчик. Сколько раз ему говорено было: Йоля, не пара он тебе. Не друг. А он: мама, ты не видишь просто, что он хороший. Да разве мать не видит? Мать все видит! Танька, пить дай!
Сестричка сунула эмалированную кружку с водой, дождалась, пока Циля напьется, и тихо убралась.
– Ишь, шикса, небось думает, что окрутит. Все шиксы его окрутить хотят. Задницами трясут, цыцки выставляют. Корова! – это Циля крикнула, чтобы сиделка точно услышала. – Он на такую и не глянет. Радуйся!
– Он – это кто? – Никита взял в руки фотографию. Молодой паренек, уже не подросток, но еще не взрослый, нерешительный, слабый и не слишком красивый. Глаза вот грустные. И скрипка красивая.
– Маратка. Яблочко от яблоньки... мамаша – алкоголичка, папаша – шизофреник. С собачьей стаей рос, пока Стефка его не вытянула. Воспитывать взялась сиротинушку. Да не он ей нужен был, а квартирка. Приехала, обустроилась в городе. Тьфу!