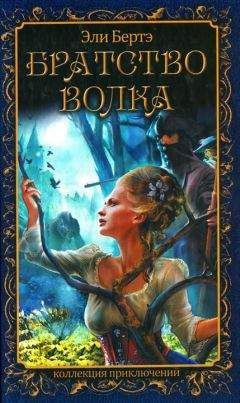Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
Плюнула она в Никиту, но не попала, отчего расстроилась. Ведьма старая. А может, и впрямь безумна? И нечего ее слушать? Нет, не так все просто, не так однозначно.
– В школу пошел. Его бы в спецзаведенье, к уродам, а он в приличную школу. Мне все учителя на него плакались, а Йоля вот помогать взялся. Я ему говорила – не к добру, а он... и что потом? Убил! И Таньку-шиксу, и Йолю моего убил. А вы и рады. Еврей! Несчастную девочку снасильничать пытался... Йоленька не такой, Йоленька не стал бы...
Из блеклых глаз сыпанули слезы, а кривой рот продолжал жевать, выплевывать слова:
– Заботится он обо мне... заботится... совестно? Какая у него совесть-то? Нету. Нету совести. Он просто смотрит, как я подыхаю... и девочку убил. Убил девочку, а потом пришел, сказал, вот тебе, дура, за язык твой длинный... подарочек. Ты глянь, глянь, чего он мне принес-то!
Она выпростала из складок толстую ручонку, протянула Никите и разжала кулачок. На ладони лежало колечко. Тонкое колечко, золотой ободок и полупрозрачный камушек на трех лапках.
– Бери, бери... думают, Циля ум растеряла. У Цили ума больше, чем у них всех. Циля оборотня видит. А они ослепли.
Может, и ослепли, но не настолько, чтобы не опознать кольцо. И директриса, и новая сиделка старухи, и еще человек пять признали украшение – Сенькино. И тут же все как один сошлись, что Сенечка сама колечко в доме оставила, сняла, когда, к примеру, Цилю купала. Только давешняя грузная бабища, которая оказалась местной поварихой, упрямо твердила, будто бы в последний вечер было на Сене колечко. Было, и все тут.
Поварихе Блохов поверил.
Более двух месяцев, проведенных нами в тюрьме Сож – даже заступничество графа де Моранжа не позволило отменить отданного де Ботерном приказа, – мы не слышали о новых нападениях, хотя отец, мой несчастный отец, разум которого к этому времени был обуян смутой, с нетерпением ждал известий.
Но Лангедок возвращался к прежней жизни.
Смотритель тюрьмы, часто навещая нас, когда с посылками от графа, когда просто повинуясь человеческой природе своей, желавшей разговоров с людьми достойными, рассказывал о том, как люди благословляют имя де Ботерна.
– Лжец, – говорил отец, расхаживая по камере. – Лжец! И воздастся ему по лжи его!
Воздалось же нам, когда однажды двери камеры распахнулись и на пороге возник де Моранжа.
– Друг мой, – сказал он, заключая отца в свои объятия. – Друг мой, наконец я сумел одолеть этого глупца... подумать только, но он всерьез на вас обозлился. Чем ты успел ему насолить?
Де Моранжа в алом камзоле, богато отделанном золотым позументом, в высоком, мало не достающем до потолка камеры парике, в кружевах и ароматах выглядел чуждо в скудной тюремной обстановке. И потому, верно, поспешил убраться. Он шел, и черная трость в его руке весело выстукивала дробь по каменным плитам, а громкий, слегка визгливый голос заполнял узкое пространство коридора:
– Я в первый же день явился к нему, потребовав вашей свободы. И знаешь, что ответил мне этот выскочка? Он сказал, что вы будете повешены! Что вы покушались на жизнь его людей! Что вы, как и весь Лангедок, жаждете избавиться от слуг короля...
Белый платок порхал в руке графа, и при каждом движении его Антуан, окончательно замкнувшийся в себе, ушедший в воспоминания и терзания Антуан, вздрагивал.
– Он, видишь ли, знает, что ты, мой друг, истинный католик! Он обзывал тебя папистом. Более того, обвинял в нарушении эдикта короля, в том, что ты якобы оказываешь поддержку иезуитам...
Для кого он ведет этот рассказ? Отчего явился сам, а не отправил кого-нибудь из слуг? Почему отец вновь обрел несвойственную ему смиренность и даже сгорбился, словно он был не человеком, но покорным воле хозяина псом?
И Антуан... он ведь боится. Чего? Неужели графа? Пустого, бестолкового, любящего покутить, налево и направо швыряющегося отцовским золотом графа? Не может быть такого.
– Де Ботерн еретик, – осмелился сказать отец, когда мы, наконец, вышли из тюрьмы. У ворот ее стояли приготовленные загодя лошади и графский портшез.
– Еретик. И пребывает в мерзости. И, понимая, сколь мерзостен, жаждет окунуть в сию мерзость и других, достойных людей, – неожиданно серьезно поведал граф. – Но мы-то знаем, что чистые духом, свободные сердцем устоят перед искушением.
Взгляд его был направлен на Антуана, а тот, посерев лицом, только и мог, что хватать губами воздух.
– Но я рад, друг мой, что этот обманщик убрался из Жеводана. Больше он не станет мешать нам... – Де Моранжа взмахом руки велел кучеру трогаться.
В тот день мы снова, пожалуй, были счастливы.
И снова стали семьей. Мы, ошеломленные просторами, каковые раскинулись перед нами, ехали, вдыхая воздух, сдобренный дымом и обыкновенной, свойственной всем людским поселениям вонью. Мы смотрели на серые дома, на суету, наполнившую Сож. Мы остановились у трактира, на стене которого, уже омытая осенними дождями, висела бумага де Ботерна. Мы читали ее втроем, но каждый про себя.
А после отец, сорвав изрядно потрепанный лист со стены, швырнул его в грязь, и копыта его лошади клеймом отпечатались на лживых словах.
– Домой, – велел отец, пришпоривая коня. Он вновь был собран, холоден и жесток. – Домой, и поскорее.
С неба зарядил холодный дождь, небесные плакальщицы старались вовсю, спешили до первых холодов излить свои горести на темные земли, на побуревшие травы, на черные окна болот и бурые скалы. Небесные плакальщицы горевали о нас, людях, а мы, недовольные, сетовали на дурную погоду.
Я хорошо запомнил тот день. И путь, растянувшийся до ночи, которая легла на дорогу перед нами, покорно и мягко. Объяла шелестящей темнотой, приветствовала голосами сов и далеким воем волчьего племени. Наши лошади неслись по дороге, разбрызгивая воду и грязь. Низкая луна освещала путь. Сердце горячо стучало в груди, радуясь обретенной свободе и скорому теплу родного очага.
И вновь я не сомневался ни в том, что зверь убит, ни в том, что отныне для меня и Антуана, для нашей семьи все станет иначе.
Тот вечер закончился общей трапезой у камина, пусть и скудной, ибо нашего возвращения, как выяснилось, не ждали. Отец был мрачен и молчалив, словно он не обрел свободу, а, наоборот, попал в заточение. Антуан и вовсе почти ничего не ел, присевши в самый темный, самый дальний от камина угол. И вымокший до нитки, там и дрожал.
– Антуан, – обратился я к нему, касаясь холодной руки. – Пойдем, тебе надо переодеться в сухое, Антуан.
– Оставь его, – рявкнул отец, ударяя кулаком по столу. – Хотя бы здесь, хотя бы сейчас оставь его в покое!
Я молча поднял брата, удивляясь тому, что стал сильнее его, хотя прежде мы были равны. Я отвел его в свою комнату и, отослав прочь служанку – отчего-то мне показалось, что ее присутствие смущает Антуана, – сам помог ему раздеться.
И поразился тому, до чего же страшен он стал. Исхудавшее до последнего предела тело, дуги ребер, что выпирали, грозя прорвать серую шкуру, сплошь испещренную шрамами. Редкие, белые на груди, они множились на боках, чтобы на спине сойтись ужасной сетью. Сколько их было? Я пытался сосчитать, но сбился, я только смотрел, пораженный, и повторял:
– Антуан, господи, Антуан...
Я обнял его, прижал к себе, гладил по голове и плечам, ладонями ощущая неровности кожи. Я хотел защитить его от мира и понимал, что поздно. Я жаждал вернуться в детство, когда любая боль скоротечна, а будущее видится непременно счастливым... я ничего не мог исправить.
Он, прижавшись ко мне, заплакал. Господи, да в последний раз Антуан плакал года в четыре, рассадивши колени до крови, а я, старше и спокойнее, жевал листья тысячелистника и говорил, что скоро все пройдет.
Почему же теперь не могу повторить эти слова? Что замыкает губы мои? Что хватает за руки и заставляет отстраняться?
И Антуан, нутром поняв мое состояние, высвободился, схватил, не глядя, рубаху, поспешно накинул на себя, скрывая раны, и сказал осипшим голосом:
– Не говори ему. Что видел, не говори.
– Не скажу, – пообещал я, раздумывая над тем, как же поступить. Стоит ли мне настоять, чтобы Антуан остался в доме, или ему и вправду будет лучше в хижине на Мон-Муше? Трусливый порыв трусливого человека, жаждавшего избавиться от проблем.
– Нам лучше не встречаться, – добавил Антуан, закатывая рукава. В доме не нашлось одежды для него, а моя была чересчур велика. – Завтра я уеду. Лучше, если и ты уедешь.
– Куда?
– В Париж. Уезжай в Париж. Скажи отцу, что... просто скажи, что хочешь уехать. Увидишь, это его обрадует. И де Моранжа даст рекомендательное письмо. Он понимает...