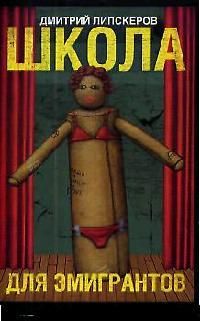Владимир Поляков - Моя сто девяностая школа
Здесь большие пруды с шумными лягушками и непоседами жуками-плавунцами. Много улиток – прудовиков и катушек, водятся тритоны, и по глади подернутого ряской пруда скользят ловкие водяные паучки.
В густых кронах деревьев заливаются птицы. Леня Юган насчитал уже девятнадцать пород. А собирателям гербариев здесь просто раздолье. А самое главное – в парке тихо, экскурсии в глубь парка не ходят, и мы здесь предоставлены самим себе.
Мы – это я и мой друг Миша Гохштейн. У нас специальные водяные сачки, глубокие, широкие, с длинными крепкими рукоятками, и большие банки для улова.
Мы построили в полуподвальной кладовочке школы аква-террариум из кирпича и бетона, площадью в 6 квадратных метров и глубиной в один метр. В середине его маленький бассейн, обсаженный низенькими кустами и папоротником. Свежий мох. А в бассейне – водоросли и ряска.
Теперь нужно заселить аква-террариум жильцами.
По нашему плану мы должны поместить в нем десятка два лягушек, десяток тритонов, двух ужей, штук восемь улиток и, если удастся достать, пару приличных ящериц. Сегодня у нас по программе ловля лягушек и всего, что попадется. С нами Аля Купфер. Она очень просилась пойти с нами.
– Я спокойно отношусь к естествознанию, но я обожаю осенний лес, очень люблю желтые кленовые листья и с удовольствием с вами погуляю. А главное – вы с сачками и склянками, и поэтому никто ничего плохого не подумает: мы пришли исключительно с научной целью.
Миша был против.
– Аля нас будет отвлекать, и мы никого не поймаем. И потом, я вообще не люблю ходить с женщинами.
Они только путаются в ногах. Я даже видел, как Муся Быстрякова в прошлую субботу наступила на жужелицу. Мне эта затея не нравится…
А я был за. Аля была очень милая девочка, она хорошо улыбалась, мало разговаривала, а когда разговаривала, делала это легко и весело. Я был убежден, что она нам не помешает. А если кто и скажет, что мы ходили с ней, так ну и пусть. Мы же ходим, а не вы. Какое, вам дело?
Мы встретились с Алей у Карповокого моста и пошли на Сюзор.
Если я не ошибаюсь, это был октябрь месяц. Весь парк был как желтая сказка. На фоне желтых кленовых листьев горели на солнце красные листики ольхи. Стояли как будто оклеенные свежими газетами березки. Почти у верхушки обнаженной сосны постукивал пестрый дятел, и смелые лягушки плюхались с берега в пруд, разгоняя водяных паучков, которые двигались, как в мультфильме. И тишина. Только под ногами шелестели груды опавших листьев.
– Здесь очень поэтично… – заметила Аля.
– Мы сюда пришли не для поэзии, а для ловли лягушек, – сказал Миша и развернул сачок.
– Это не мешает любоваться красотой природы, – возразила Аля. – Разве тебе этот пейзаж не напоминает Клевера?
– Клевер, Шишкин, Куинджи, Айвазовский, – сердито заявил Миша. – У меня папа художник, я все это давно знаю. Пришла с нами и молчи. Лягушки пугаются твоего голоса, и ты только мешаешь.
– Хорошо, не буду. Буду тише воды ниже травы.
– Очень хорошо, – сказал Миша.
– Аи! – вскрикнула Аля. Она ступила ногой на лежавшую у пруда толстую корявую ветку, ветка обломилась, Аля попала ногой в пруд и упала, замочив себе половину пальто.
Конечно, я бросился ей помочь, подал ей руку и вытащил ее на берег.
Аля с благодарностью посмотрела на меня своими голубыми глазами, и мне почему-то сделалось очень приятно.
– Ты бы любой девушке помог? – спросила она тихо.
– Конечно, любой, – ответил я, а потом почему-то спохватился и сказал: – Не знаю насчет любой. Но тебе помог с удовольствием.
И тут же подумал: если еще пойду на Сюзор или, скажем, на Каменный остров, опять возьму ее с собой.
Можно даже без Миши…
Мы подошли к обещающей заводи и погрузили в нее сачки. Улов был отличный: у Миши три больших энергичных лягушки, у меня одна большая и одна маленькая и две улитки.
– Фу, какая мерзость эти лягухи! – брезгливо сказала Аля. – Я бы, кажется, умерла, если бы такая на меня прыгнула…
– Если хочешь остаться жить, никогда больше с нами не ходи, – сказал Миша.
– Нет, конечно, в лягушке тоже есть своя красота, – сказала Аля, – но к ней, очевидно, надо привыкнуть. Я постараюсь это сделать.
Аля вселила в меня надежду.
Миша поймал еще личинку стрекозы, двух пятнистых, как леопарды, тритонов и замечательного паучка, забыл его имя, который строит домик из воздуха, светящийся и переливающийся на солнце.
В это время к нам подбежал какой-то шкет в огромной дурацкой кепке, крикнул: "Девчонка-рыболов!" – бросил в пруд булыжник и обдал водой испугавшуюся Алю.
– Ты что, обалдел? – закричал я. – Кто тебя звал?
А ну иди отсюда, пока не получил по шапке!
– Это я получу по шапке? Это ты, что ли, мне дашь? Да я от тебя мокрого пятна не оставлю, интеллигент! – накинулся на меня парень.
– Уходи! – сказал ему Миша. – Нечего здесь хулиганить.
– А по физиономии не хочешь? – спросил парень, выпячивая грудь и надвигаясь на Мишу.
И вдруг Миша с искаженным лицом, – казалось, что сейчас выскочат все его веснушки, которыми было оно усеяно, – юбросил с головы парня кепку и надел мокрый, грязный сачок ему на голову.
Аля звонко захохотала. По лицу парня текла вода, тянулись какие-то водоросли и выскочил лихой жучок.
Парень исчез в кустах.
– Ты, Миша, рыцарь! – восторженно сказала Аля. – Я от тебя этого не ждала.
– От меня и не того можно ждать, – сказал Миша.
А я подумал, что, может быть, следующий раз, когда Миша пойдет на Сюзор или на Каменный остров, он, может быть, не позовет меня, а договорится с Алей Купфер. От него можно и не того ждать.
ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
На сцене за длинным столом, покрытым зеленой скатертью и уставленным цветами, сидели все педагоги.
Внизу, у сцены, разместился наш духовой оркестр.
Люстры актового зала сверкали во всю мощь. А в зале сидели мы, – как это ни странно, – уже взрослые люди, имевшие за плечами по шестнадцати и семнадцати лет.
Некоторые из нас уже даже брились, хотя, по совести говоря, брить еще было нечего.
За нами в зале сидели наши родители.
Это был выпускной вечер. Нам выдавали аттестаты об окончании школы. Мы поднимались на сцену, и Любовь Аркадьевна вручала их нам, и духовой оркестр каждому из нас играл туш, и тревожно бил большой турецкий барабан, и гремели сияющие в свете люстр тарелки. И нам казалось, что нас приветствуют и благословляют на дальнейшую жизнь Пушкин и Гоголь, Тургенев и Толстой, Блок и Есенин, Архимед и Галилей, Ньютон, Бойль и Мариотт, Дарвин и Пржевальский, Пифагор и Лобачевский, Ушинокий и Виппер – все те, кто помогал нам в ученье.
И маленькая Мария Германовна с чуть поседевшими волосами что-то говорила о нашем будущем и для чегото сказала:
– Не забывайте свою школу.
Разве можно ее забыть? Разве не стали родными ее стены, коридоры, латунные перила, знаменитые часы и электрический звонок на лестничной площадке, ступеньки ее лестниц, маленькая учительская, исхоженный нами паркет полов?!
Разве не стали для нас незабываемо родными лица наших учителей, которые мы видим сейчас, как в тумане, сквозь набежавшие слезы?!
Сколько было всего здесь! И серьезного, и горького, и радостного, и смешного.
Разве забудем мы нянечку Лизавету, которая хранила в гардеробе трогательные мешочки с нашими галошами и возвращала нам забытые шапки? А Прометея – нашего ворчливого Павла Кирилловича, с его кошкой, вооруженного неизменной щеткой и ругающего нас на чем свет стоит!
Разве можно забыть ту школу, которая нас научила дружить, научила нас мыслить, и отличать добро от зла, и уважать труд?!
Разве можем мы забыть своих школьных друзей, с которыми вместе пройдено столько лет жизни, с которыми мы хлебали горе и познавали радость и счастье?!
Почему я так волнуюсь? У меня, кажется, прилип к гортани язьж. Что случилось? Ах, да! Сейчас я должен выйти на сцену и что-то сказать. Я должен что-то ответить от имени всех окончивших. Но я же не могу.
Я же заплачу. А собственно, почему я должен плакать?
Это же радостный вечер. Мы же окончили школу. Мы же входим в жизнь. Мы же стали взрослыми. Ура! Почему же так грустно? Мне жаль покидать этот дом.
В нем остается кусок моего сердца. Вернее, куски наших сердец. И как повернется жизнь? Как она сложится? Кем мы будем? Как мы станем дальше жить, учиться, работать? Будем ли мы достойны наших учителей, нашего города, нашей Родины?
– От учащихся слово имеет Владимир Поляков, – услышал я голос Льва Самойловича Бреговского.
Не знаю, какая сила меня подняла со стула, но я встал и пошел на сцену. Я встал перед столом президиума, я посмотрел на моргающую Марию Германовну, вспомнил, как она поставила мне за сочинение "не вполне удовлетворительно", и, растроганный от нахлынувших на меня чувств, лишился слов.