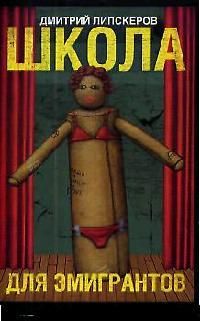Владимир Поляков - Моя сто девяностая школа
И вдруг в магазине на углу Введенской улицы, где толстый хозяин по фамилии Родэ торговал марками для коллекций, появилась в витрине марка Соединенных Штатов. Но какая марка! Она была огромная. На ней могли уместиться двенадцать обычных марок.
Она была бледно-розового цвета, и в центре ее был портрет какого-то президента. Такой марки не было ни у Грозмани, ни у Рабиновича, ни даже у знаменитого филателиста нашей школы Алявдина из последнего класса.
Трепеща от нахлынувших на меня чувств, я вошел в лавочку и, задыхаясь от волнения, спросил:
– Скажите, пожалуйста, сколько стоит большая марка Соединенных Штатов, которая у вас в окне?
– Это дорогая марка, мальчик, – сказал, улыбаясь, Родэ, он сам сидел за прилавком. – Она стоит двадцать пять рублей. Это тебе не по карману. Это очень редкая марка.
Я вышел из магазина. Я шел по улице как загипнотизированный этой маркой. В глазах был розовый свет и качался президент Соединенных Штатов. Я шел, не зная, куда иду. Нет, неправда, я знал, я твердо знал, что иду в часовой магазин на углу Бармалеевой улицы.
Я иду продавать часы. Я должен иметь эту марку.
Я уже видел ее наклеенной в своем альбоме.
– Здравствуйте, – сказал я, входя в магазин. – Я хочу продать часы.
– Покажи.
Я показал.
Продавец приложил их к уху, послушал ход, потом открыл заднюю крышку и долго рассматривал механизм в увеличительное стекло, которое вставил в глаз.
– Могу тебе дать за них тридцать рублей, – сказал он после долгого молчания.
– Берите, – сказал я и отстегнул цепочку.
Сжимая в руке тридцать рублей, я бежал как сумасшедший до магазина Родэ. Влетев в магазин, я положил на прилавок тридцать рублей и сказал:
– Вот… дайте мнечэту марку…
Родэ посмотрел на меня с удивлением, но открыл витрину, достал лист с марками, отклеил от него заветную марку, и она оказалась у меня в руке. На оставшиеся пять рублей я накупил красивых марок Судана с верблюдами, Либерии с крокодилом и муравьедом и Танганьики с негритянками.
Родэ завернул марки в целлулоидный конверт, и я пошел домой, усталый от переживаний и счастливый от обладания такими сокровищами.
Я наклеил марки в свой альбом и сел готовить урок по геометрии.
– Ну, как действуют твои часы? – спросил папа, войдя в комнату.
– Нормально, – сказал я, замирая от страха.
– Который час мы имеем?
– Мы имеем семь часов, – сказал я.
– А поточнее? Ты не ленись, посмотри.
– Я, кажется, забыл их в школе, – сказал я.
– Как ты мог их забыть?
– Я оставил их в парте.
– Они же у тебя на цепочке.
– А я их отцепил.
– А где цепочка?
– Тоже там, – сказал я.
– А на какие средства ты купил эту марку, которая появилась у тебя в альбоме?
Что я мог ответить? Я молчал.
– Где ты взял деньги? Уж не продал ли ты свои часы?
Лгать было бесполезно.
– Да, – сказал я. – Я их продал.
Отец вышел из комнаты и два дня со мной не разговаривал.
На третий день папа заговорил.
Когда я проснулся утром и спросил: "Который час?" – он сказал:
– Посмотри на свою марку. Пусть тебе ответит президент Соединенных Штатов.
ЛЕЛЯ МАЕВСКАЯ
Улыбка, как на рекламе зубной пасты, волны непокорных волос, тревожный тонкий, острый носик и пронзительно-розовые губки. Капризный поворот головы, будто бы недоумевающие плечи, гибкая фигурка, модное заграничное платьице и узкие, с заостренными носами, ярко-красные туфли. Это Леля Маевская. Ей 14 лет, но вполне можно дать семнадцать, и восемнадцать тоже. Она приехала с родителями в Ленинград и поступила в седьмой класс.
Ее появление в школьном коридоре сотворило переполох. Мальчики из 9-го класса перестали бегать курить в уборную и все перемены проводили в коридоре второго этажа. Мы, которые помладше, перестали играть в чехарду и гонять по лестницам, а наши девочки стали активно шушукаться и стесняться своих скромных платьев. И даже красавица Дуся Бриллиантщикова, оканчивающая в этом году, подошла к ней и спросила – где вы достали такие туфли?
Словом, через два дня с ней стали дружить почти все наши девчонки, кроме Лиды Соловьевой, которая сказала:
– Подумаешь, какое чудо! Обыкновенное парикмахерское чучело. У нас три таких бюста выставлены в витрине…
Лида это точно знала, потому что у ее родителей была своя парикмахерская на Большом проспекте.
Но остальным девочкам Леля пришлась очень по вкусу, некоторые из них старались ей подражать и возвращались из школы домой вместе с ней.
Преподаватели относились к ней с осторожностью, боясь, как бы ота модница не испортила им класс.
Тем не менее "модница" вполне прилично училась, была дисциплинированна и ничего не портила.
А меня возмущало то, что Маевская не обращала на меня никакого внимания. Нет, я не был избалован вниманием девочек, но Леля уж слишком не обращала внимания. Она шепталась с Лесей Кривоносовым, со Старицким, с Коцем – и это меня особенно почему-то злило.
Они устраивали какие-то вечеринки у нее на квартире, но мне доступа туда не было, и я втайне переживал. Я считал Лелю очень красивой, она напоминала мне героиню какого-то американского романа, и, чего греха таить, мне очень хотелось пройтись с ней рядом по Большому проспекту, чтобы на нас оглядывались прохожие. Но – увы!
Как-то на уроке литературы, возвращая сочинения, Мария Германовна сказала:
– Маевская написала очень плохо. Орфографических ошибок нет, почерк отличный, но смысл отсутствует. Ты, Леля, ничего не поняла в отношениях Софьи и Молчалина. Молчалин никогда не был влюблен в Софью, как ты пишешь, "до безумия". Он подхалимствовал перед ней и перед ее отцом, но ни капельки не любил ее. Он не любил, а прислуживал. Он так был рад бы прислуживать "собачке дворника, чтоб ласкова была". Я вынуждена поставить тебе "неудовлетворительно".
И тут я увидел впервые, как Маевская плачет.
На перемене я подошел к ней.
– Не расстраивайся, Леля, – тихо сказал я.
– С чего ты взял, что я расстраиваюсь? У меня просто сегодня плохое настроение. И я не люблю, когда мужчины меня жалеют. Я ненавижу это. А насчет Молчалина Мария Германовна не права. Молчалин, вопервых, красивый мужчина, во-вторых, он любил Софью. Иначе бы она не позволяла ему то, что позволяла. Женщина никогда не будет благосклонно относиться к тому, кто ее не любит по-настоящему.
– Откуда ты это все знаешь? – спрашиваю.
– Неужели ты думаешь, что я за четырнадцать лет никогда не любила? Что бы я тогда в жизни понимала?
Эх, Володя, Володя!.. Вот станешь совершеннолетним, тогда поймешь.
– А ты тоже не совершеннолетняя.
– Женщина раньше развивается.
Леля говорила и смотрела куда-то вдаль, и глаза у нее были как у моей тети Любы, когда она шла на танцы.
На следующий день, после урока геометрии, в класс вошла наша классная наставница Любовь Аркадьевна и сказала:
– Сейчас мы останемся в классе и поговорим на неприятную тему. Поляков, перестань копаться в парте. Сегодня Маевская пришла в школу с намазанными губами. Это ужасно. Как ты могла это сделать, Маевская?
– Можно сказать? – спросила Леля.
– Скажи.
– В женщине все должно быть красиво, – сказала Леля. – У меня бесцветные губы. И я их всегда красила, но вы этого не замечали, потому что у меня была очаровательная помада, которую мне привезли из-за границы. Эта помада кончилась, и я подкрасила губы другой. Она слишком яркая. Я не думаю, что я в чемнибудь виновата. Все женщины, у которых хороший вкус, красят губы. Мэри Пикфорд не выходит на улицу, не подмазав губ.
– А ты знаешь, сколько лет Мэри Пикфорд? – спросила Любовь Аркадьевна. – Мэри Пикфорд – женщина, и еще к тому же актриса, а ты еще девочка. Так ты можешь начать еще и курить, и пить вино, и еще бог знает что. Твоя мама знает, что ты красишь губы?
Леля молчала. Она только побледнела.
– Так вот: чтобы я никогда больше не видела тебя в таком виде. Ты – в школе. Запомни это. И ты еще девочка.
– Я уже не девочка, – сказала Леля, – и, возможно, я скоро выйду замуж.
– Хорошо, – сказала Любовь Аркадьевна. – Но сперва вызови свою маму.
На этом собрание закончилось, и мы все вышли из класса.
– Ты что, серьезно собираешься выходить замуж? – спросил я у Лели.
– Вполне, – сказала она. – Мне надоели эти замечания, и я хочу жить, как мне нравится. Хочу – буду краситься, не хочу – не буду. Вот я крашу губы, а у меня "отлично" по геометрии, а Леля Ершова не красит – что толку? У нее "неудовлетворительно".
– А ты думаешь, если она будет краситься, у нее тоже будет "отлично"?
– Не знаю, – сказала Леля. – Я об этом не думала.
Хочешь пойти завтра в театр Музыкальной комедии на оперетту "Сильва"? У нас есть лишний билет.
– Конечно, – сказал я, покраснев. – А что это "Сильва"?