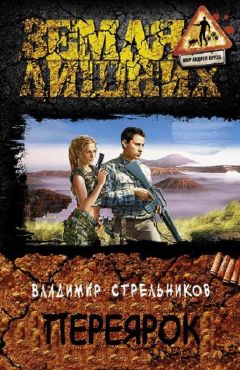Феликс Кандель - Люди мимоезжие. Книга путешествий
– «Чайная», – сказала. – Читать умеешь?
– Ой, врешь! В чайной так не бывает.
А она со смешком:
– Что же мне теперь, грязь разводить, мух напустить, водку разливать?.. Ешьте, пока не остыло.
Масляны блинки – самое оно объедение. Лежат – дышат.
Пупыристые, темные, толстые, пахучие – проглоти язык!
А бревна гладкие, ровные, увесистые, задами оттертые, срез по краям янтарем старым, и кольца на срезе – узор в желтизне.
Мы ели, она из окна глядела.
Масляно есть – хорошо жить.
Стопку подмолотили в присест.
– Нанизались?
– Я нанизался.
– А я нет.
Через блин и он отпал.
Потащил из кармана мятые трешки.
– Сколько платить?
– А нисколько.
– Как так? Ты же «Чайная».
А она – загадочно:
– Кому «Чайная», а кому и чаянная.
– Ну, жизнь! – восхитился мой друг. – И богатства не надо. Остаюсь тут.
Оглядела. Сказала раздумчиво:
– Одного бы я приняла... Набанила поначалу. Спать уложила.
Мы как споткнулись.
Осмотрели ее внимательно.
Сидит женщина у окошка, глазами в тоске.
– Да нам некогда… – сказали нерешительно.
– Всем некогда, – вздохнула. – А годы ушли.
Тут уж и я вступил в дело. Локтем ему под ребро.
– Вот, – говорю. – Шанс тебе. Не упусти. И поле рядом. Скотопитательные пшеницы. Какого еще рожна?
– А почему я? – спросил подозрительно и глаз сощурил, будто впихивали ему на рынке негодный товар, гнильё-отходы.
– Твоя идея. Твоя машина. Тебе первому.
Подумал.
– А ну выйди. Покажись.
Вышла. Постояла на крылечке. Себя показала. Полный у нее порядок на всех фронтах.
Завертелся. Заюлил. Заскулил от сомнений.
– А почему я?! Всё я да я... Я уже устал от ответственности. Реши ты за меня!
– Нет уж. Ты сам.
Опять глаз сощурил:
– Завлекаете? Только добрый молодец и жив бывал?.. Ты оставайся!
– Ладно уж, – сказала из окошка. – Пошутить нельзя?
И заплакала.
Тихой слезой, как ребенок.
Она плачет, мы на бревнах ёрзаем.
– Слушай... Может, тебе в деревню перебраться? Всё не одной.
Говорила – вздыхала через слово:
– Мне в деревню никак... Имя мне по деревне – Вешалка... Вешаюсь будто на всех. А тут, может, пройдет кто, за собой позовет: «Пойдем, моя кровиночка, куда ведет тропиночка»...
И улыбнулась жалко.
Лицо бледное. Глаза красные. Нос запухший. Губа дрожит.
– Идите, – сказала. – За богатством за своим. У бабы Насти полон для вас чердак.
– А чего там есть?
– Старинушка. За сто, за двести лет коплено. Вон, через поле.
И мы пошагали со стыдом.
А сзади – как в спины тюкало:
– Ноги мои приплошали. Руки отпали. Головушка моя забаливает. Ах, Патрикеева, Патрикеева, без смерти тебе смерть...
Мой нетерпеливый друг шустро шел впереди, вскрикивал фальшиво:
– По богатство идем! Старинушку собирать! Иконы, прялки, лампы фитильные... Домой привезу, в комнате расставлю – уголок покоя! Сел, расслабился, чего еще надо?
– Пивом, – говорю, – тоже можно расслабиться. Бутылок с трех. А тут – человек живой. Утешения просит.
Обиделся. Запыхтел шумно. Кинул запальчиво:
– Да я с ней, может, переписываться буду! Понял?
И оглянулся ненароком.
На дом невидный. На наличники резные. На дверь призывную. И бревна сухие горкой накатаны: покурить после еды.
– Не, – сказал окончательно. – К бабе Насте идем. Она ждет, небось. В оконце выглядывает. Голову подпирает рукою. В платочке с горохами.
Тем и утешился.
3Разулись, ботинки повесили на палку, пошагали гуськом по тропе. Трава под ногой мягкая, бархатная, уступчивая. Ступню нежит, пятку остужает. Идем промеж стен: хлеб густо стоит, струной тянутой, небо над головой в грудастых облаках, и ничего больше не видно. То ли мы ростом не вышли, то ли хлеб уродился хорош. И только шорох, тихий, настойчивый, дождичком понизу: колосья перезрели, зерно сыплется.
Стоял посреди хлебов мужчина обыкновенный, знакомец наш утрешний, задумчиво перебирал травы. Пальцами перетирал, нюхал, на язык брал, головой качал в сомнении. А в ногах у него шебуршня мышиная, крутятся – не разглядишь кто, и крик оттуда на все голоса, незлобивая ссора.
– Что ты ему суешь? Ну что?..
– Плакун-траву.
– Да он и так плачет, слезой исходит.
– Поплачет – легче будет.
– Кто тебе сказал?
– Люди говорят.
– Много они понимают, твои люди! От тепла легче будет. От еды. От запасов зимних. А от слезы-то чего?
– Ой, нашел, нашел. Эту! Траву-тирлич.
– На кой ему?
– Под мышками натрет, в лешего оборотится, всё враз позабудет.
– Да он крещеный! Дед, ты крещеный? Ни в кого он не оборотится.
– Нынче крещение не действительно. Отменили декретом.
– Кто те сказал?
– Этот. Коля-пенек. Я сам слыхал.
– Дурак твой Коля.
– Дурак – не дурак, а их власть.
– Траву-колюку не надо?
– Не надо.
– Траву-прикрыш?
– Да она для невест!
– Кошачью дрёму? Коровяк? Курячью слепоту'? На ночь – стопочку травничку.
– Давали ему. Стаканами! Не балдеет.
– Мне бы, – сказал утрешний знакомец, – зелье забытущее. Спячий вырь-корень. Память чтоб отошла.
А они с повинной:
– Только что был... Рос себе под присмотром.
– Может, мыши погрызли?
– Станут они тебе. Здешние мыши с хлеба опухли.
– Привет, – сказал мой нетерпеливый друг. – С кем разговоры?
Пискнули. Взвизгнули. Затаились в хлебах.
– Ночи не сплю, – ответил на вопрос мужчина. – На печи верчусь. Жизнь перебираю. Бока к утру ноют, душу намял. Пососать бы вырь-корень, да и перезабыть всё.
– И мне! – возбудился мой друг. – Пососать – и в отключку. Что было – не помню, что будет – не знаю. Где этот корень? Я заплачу.
А из хлебов непочтительно:
– Здесь не платят.
– Я заслужу.
– Здесь не служат.
Сощурился. Сказал с расстановкой:
– Некоторые думают, что без них не обойтись. Пусть некоторые этого не думают.
Вылетел оттуда земли комок, покарябал ему щеку.
Вылетел другой – меня по затылку.
– Окружают, – говорю. – Бежим!
А за ноги уже держат.
Травой оплетают.
Щекочут – не разберешь кто.
– Годы мои вышли, – сказал на это утрешний знакомец, – а Бог не прибирает. Не намучался, видно, норму свою не выбрал. Пойти, что ли, еще пожить?
Пошагал себе.
– Так, – сказали понизу без особой ласки. – Щас мы вас отхрястаем. Вяжи их, братцы!
Тут загремело, зазвенело, забренчало на все лады, как пожарный обоз катит. Голос прорезался поверх звона, пронзительный и разудалый: «Мой миленок окосел, не на те колени сел...»
– Караул! – пискнули. – Коля-пенек едет…
И врассыпную.
Катит себе через поле комбайн самоходный, вензеля на ходу выписывает, хлеб убирает. Половину пропустил, половину затоптал, половину мимо грузовика ссыпал. Подлетел на скорости, тормознул – только гайки по сторонам брызнули.
– Здорово, – говорит, – народ ненашенский!
Сидит за рулем парень: драный, чумазый, мазутом переляпанный, и глаза у него дурные, как перевернутые. Зрачков нет, бельма одни.
– Чего, – говорит, – дорогу загораживаете? Я из-за вас в простое.
А те, с отдаления, визгливо и невпопад:
– Ты чё делаешь, варвар? Хлебушко губишь. Технику гробишь. Пенёк, одно слово!
– Кому пенёк, – сказал гордо, – а кому и механизатор.
Вывернулись глаза обратно, зрачками на место встали. Взял деловито молоток, стал гайку на болт наколачивать.
– Слушай, – говорю. – Гайку наворачивают, а не забивают.
– Какая гайка, – ответил с пониманием. – Тоже, небось, курсы кончал. Если резьба одинаковая, то наворачивают. А если разная, то забивают.
Снова заработал молотком.
– Аспид! – закричали с отдаления. – Нежить! Сила нечистая! Бога-то хоть побойся!
– Нету, – сказал, – вашего Бога. На курсах просветили.
– А чего есть?
– Жизнь четырехтактная. Всасывание, сжатие, зажигание да выхлоп. Гуляй – не хочу.
И снова глаза перевернулись: бельмами наружу.
– Да в такой жизни, – завопили из хлебов, – и чёрт жить не станет! Поищи дураков на выхлоп!
– Цыть, – сказал важно. – Раздухарились, козявки. Вот выпишем попа из центра, он вас ужо закрестит.
– Да уж лучше с попом, чем с тобою!
На это он не ответил. Только отверткой поковырял в ухе, да сапогом долбанул по мотору, чтобы работал без перебоев.
– Скажи, – спросил мой нетерпеливый друг, – деревня твоя горела?
– Тебе на что?
– Интересуюсь.
– Не, не горела. Деды болтали: лет триста.
Как подобрался:
– Старики у вас помирали?
– А то нет.
– Иконы куда девали?
– В молельный дом стаскивали.
– А где он?
– Кто?
– Дом молельный?
– У меня в избе. Батяня с маманей шибко верующие были.