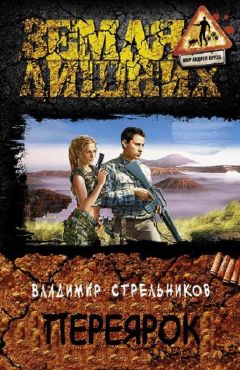Феликс Кандель - Люди мимоезжие. Книга путешествий
Кому спозаранку, а кому на поминках.
Кому – горя, а кому – радости.
Кому – силы, а кому – слабости.
Кому – всё, а от кого – всем.
Счастливый к обеду, роковой под обух.
Я лежал на животе на перекрестке дорог, как распластанный указатель направлений, и оставалось только гадать, как же это меня не раздавил ночью бесшабашный проезжий люд.
Рань ранняя.
Колыхание легкое.
Свиристение робкое.
Дымка понизу и просвет в облаках.
Тут я проснулся. А может, очнулся. Так сразу не разобрать.
Ноги не поднять. Рукой не шелохнуть. Мыслью не воспарить.
Тяжесть непомерная по телу, как навалился навал.
А мой нетерпеливый друг уже шустро уходил вперед, без оглядки по проселку, рюкзак за спиной.
– Эй, – позвал я. – Прямо ехать – убиту быть.
Встал. Подумал. Спросил осторожно:
– Ты почем знаешь?
– Знаю, – сказал я. – Читаем кой-когда. Интересуемся.
Еще подумал:
– А вправо ехать?
– Богату быть.
– А влево ехать?
– Женату быть.
– Врешь ты всё, – сказал он решительно.
И пошел назад.
Рухнул возле меня, скрючился в три погибели, лицо в морщины согнал: колыхание чувств, бултыхание мыслей.
– Господи! – забубнил. – Для чего Ты напридумывал развилки, Господи? Перекрестки. Перепутья с раздорожьями. Мало нам забот и без этого, Господи? Мозги сохнут. Душа спекается. Рельсов желаю, рельсов!
Стояла каменная будка на обочине, кладки ненашенской. С округлой крышей, с проломом в боку, с обглоданными углами, с покореженной скамейкой, с указателем автобуса снаружи и с похабщиной внутри.
– Вот, – говорю, – твои рельсы. Катись по маршруту. Первая остановка – часовня, далее везде.
Помолчал, как отдышался, сказал, как не слышал:
– На перекрестке, – сказал, – черти яйца катают. И ведуны с колдунами. Чаровники с шептунами. Знахари с ворожеями. Потому и часовни ставят. Кресты для защиты. Путнику на спасение.
– Ты-то откуда знаешь?
– Знаю, – сказал мстительно. – Тоже интересуемся.
Посвистел нахально.
Тогда и я посвистел. Нахальнее его.
Потом посвистели оба: каждый на свой лад.
Не поделили чего?..
Шел прямо на нас мужчина обыкновенный.
Оттуда шел, где убиту быть.
На лицо испитой, на тело тощий, на вид малохольный, на одежды бедный, на годы неизвестно какой. Ноги волочил без удовольствия. Руки висели без пользы. Голова качалась на стебельке.
– Ты кто есть? – спросил на подходе мой нетерпеливый друг.
Сел в будке, спину потянул со вздохом.
– Таю, – сказал в ответ. – Чахну и хирею. С тела спадаю. В нитку тянусь. Порвусь скоро на тонком месте.
– Видишь? – показал я. – Это и значит – убиту быть. Какой с него спрос?
Но мой друг так сразу не отстал.
– Та сторона – убиту быть. А наша сторона чего? Живу быть? Пьяну быть? Ты куда шел, человек-два уха? Отвечай!
Мужчина привалился к стене, глядел умученными глазами.
– Тут, – сказал, – только и передохнешь. Один приют – кругом на сто верст. Горе у кого. Болезни. Помин близкого. Придешь спозаранку, пока автобусы не ходят, посидишь чуток – душа отмокает.
– Да тут всё загажено! – завопил мой друг. – Похабель с мусором! С чего отмокать-то?..
Но тот уже не глядел. Тишел, светлел, уходил в свое, как на дно опускался, в прохладу прозрачных вод.
– Видишь? – сказал я. – Раньше паломничали по монастырям, теперь по автобусным остановкам. И властям спокойно.
– Сволочи, – сказал на это мой друг. – Паук, и то одну муху сосет.
Встал решителен. Шагнул стремителен. Меня потянул за собой.
– Женат был. Убит буду. Пошли богатеть!
И мы зашагали направо.
Пёхом да спёхом.
По дороге к богатству.
От Лебедяни на Ливны, от Ливны на Смольны, на Козельск да на Полоцк, на Торжок и к Туле, на Переяславль да на Судогду, через Колокшу на Мстино, от Волочка и до Углича, через Ростов на Калугу, не доезжая Рязани, где дураков вязали, богатства им не казали.
Дурак по дуру далеко ходит.
Стоял тын на пути – городьбой поперек. Ни обойти его, ни перескочить. Высокий, глухой, замшелый, и колья для острастки заострены поверху.
– Эй, – позвал мой нетерпеливый друг, – живые есть?
Оттуда с ленцой:
– Ну, есть.
– Отворить можешь?
– Ну, могу.
– А чего ждешь?
– Вчерашний день.
– Так, – сказал мой друг. – Будем тебя рушить.
– Не надо, – говорю, – рушить. Само отодвигается.
Отодвинули колья. Заглянули. Присвистнули.
– Здорово, чёрт вертячий!
Лежал на травке этот, мужичок зыристый, голову уложил на портфель, травинку грыз от нечего делать да глаз щурил на солнышко. Угрелся в затишке.
– Был чёрт вертячий, – сказал. – Теперь чёрт снулый. Понизили за ваши геройства.
– А чего мы сделали?
– Утку загубили. Народ пугали. Чертей смущали. Маленький Ерофейчик в петельке задавился.
– Чего?..
– Ничего. Попрошу отгадку.
Подумали.
– Мы не знаем.
– Проходите.
Мой друг разобиделся:
– Как так – проходите? Мы же не отгадали.
– Да по мне, – сказал мужичок, – хоть кто иди. После нас хоть волк траву ешь.
Зевнул сладко.
Мы пролезли. Встали. Глядели с сомнением.
– Этот Ерофейчик... – сказал мой нетерпеливый друг. – С чего он задавился?
– А хрен его знает, – ответил снулый чёрт и принялся взбивать портфель, чтобы помягче было. – С такой жизни хоть кто задавится.
Захрапел с переливом.
Мы шли дальше. Друг мой сердился. Бурчал от негодования. Бормотал в сердцах. Клял кого-то. Даже всхлипнул разок.
– Ты чего это?
– Ерофейчика жалко...
– Да это пуговица, понял? Отгадка – пуговица.
Встал. Поглядел ненавистно:
– Для кого, может, и пуговица, а для меня Ерофейчик в петельке.
Тогда и я задумался. Взвесил. Прикинул. Сказал через паузу:
– И для меня – Ерофейчик...
2Поле поманило увалистым безграничьем. Поле задразнило зеленью безбрежной. Тропкой увилистой. Мелкой желтизной ромашек. Птичьим кувырканием и мотыльковым шевелением. Избами на дальнем краю. Тишью. Покоем. Безветрием. Хоть в улог ложись, не сходя с места.
Мой нетерпеливый друг так и бухнулся на колени, как подбил кто. Руки простирал. Шею тянул. Запахи вдыхал. Кланялся. Лбом стукался об землю. Балдел от прилива чувств. Бормотал всякое: понесло от ощущений.
– Там по полям пажити скотопитательных пшениц. Изобильны там по лугам травы зеленящи. Разноцветущие цветы благовонны несказанно. И премного, и плодовито, и самородно, и красносмотрительно!
Тут голос – на звук печален:
– Ах, Кудряшова, Кудряшова, что же с тобой будет?
Стоял дом на отшибе строением невидным. Женщина из окна румяная. Наличники резные. Ставни. Занавесочки. Дверь призывная. Крыльцо с половиком. Рукомойник на гвозде. Полотенце холстинное. Бревна сухие горкой накатаны: покурить после еды. И надпись от руки – «Чайная».
Мой нетерпеливый друг уже навострил глаз:
– Это вы Кудряшова?
Губы пухлые. Глаза синие. Коса венцом. Щека кулаком подперта.
– Была бы Кудряшова, кабы Кудряшов посватал. Подкрепиться не желаете?
– Желаем. Но нам некогда. За богатством идем.
Она и не удивилась:
– Это вам в деревню надо. Через поле.
– Пошли, – скомандовал мой друг. – Там и поедим. Всего-то километр с хвостиком.
А женщина:
– Хвостики наши немереные. Его никто за раз не переходил, это поле. Были и половчее вас.
Засомневались:
– Разве перекусить... Чего у вас есть?
– А чего желаете?
– Желаю, – важно сказал мой друг, – чтобы был бык печеный, а в боку нож точеный.
– Садитесь на бревнышки. Я мигом.
И подала через окно две тарелки.
По куску хлеба. По ломтю мяса. По огурцу соленому. Да горчицы шматок.
Мы ели, она из окна глядела.
Мясо уварилось. Хлеб пропекся. Огурцы просолились. Горчица слезу выжала.
А бревна – сухие, теплые, звонкие, солнцем пропеченные, и узоры от короедов – завитушками, как писарь письмена навел.
– Ах, Лопухова, Лопухова, куда же ты катишься?
Тут уж и я навострил глаз:
– Это вы Лопухова?
Лик грустный. Лоб чистый. Морщинки редкие. Плечи под шалью зябнут.
– Была бы Лопухова, кабы Лопухов под венец повел. Еще дать чего?
– Будет. Перекусили – и за богатством.
А она:
– До богатства путь долгий. К вечеру не управитесь. Блинков вам пожарить?
– Каких блинков?
– Гречишных.
– Жарь!
Зашипело. Зашкворчило. Потянуло масляным запашком. Заворожило из окна тихоньким говорком:
– Плешь идет на гору, плешь идет под гору. Ты плешь, я плешь, на плешь капнёшь, плешь задерёшь, да плешь наведёшь.
– Эй! Это чего?
Сунулась наружу: от плиты красна.
– Блинки уговариваю. Чтоб пышнее были.
– Ты кто есть такая? – спросил прямо мой нетерпеливый друг. – Колдунья? Ведунья? Баба-Яга?