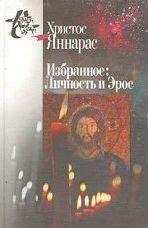Курт Воннегут - Да благословит вас бог, мистер Розуотер, или Бисер перед свиньями
Все молчали.
— Стоило ему мигнуть, и он стал бы губернатором Индианы. Да попотей он хоть чуть-чуть, он смог бы стать президентом Соединенных Штатов! А кем он стал? Я спрашиваю вас, кем он стал?
Сенатор снова закашлялся, а потом ответил сам себе:
— Нотариусом, друзья мои, нотариусом, чьи полномочия вот-вот истекут.
* * *Это была сущая правда. Единственным официальным документом, висевшим на покрытой плесенью фанерной перегородке в конторе Элиота, было свидетельство о его назначении нотариусом. Ибо многие из тех, кто приходил к нему с уймой своих забот и горестей, нуждались, помимо всего прочего, еще и в том, чтоб кто-нибудь заверял их подписи.
Контора Элиота находилась на главной улице, в квартале от Парфенона, напротив здания пожарной дружины, отстроенного на средства Фонда Розуотера. Это была крошечная мансарда, нависшая над уличной забегаловкой. В доме было всего два окна — жалкие, как в собачьей конуре, слуховые оконца мансарды. В одном красовалась вывеска «Завтраки», в другом — «Пиво». Обе вывески были электрифицированы, причем электрические буквы беспрерывно мигали. И пока отец Элиота в Вашингтоне распинался о своем сыне, Элиот спал сладко, как младенец, а вывески на его окнах то вспыхивали, то гасли.
Элиот сложил губы сердечком, что-то тихо пробормотал, повернулся на другой бок и захрапел.
Он был огромный детина — метр восемьдесят ростом, девяносто два килограмма веса, атлет, заплывший жиром, бледный, с залысинами по обе стороны торчащего вихра. Слишком просторное армейское белье, оставшееся у него с войны, окутывало его, точно пеленки, свисало складками, как кожа у слона. На каждом из его окон и на двери, выходившей на улицу, золотыми буквами было выведено:
«Фонд Розуотера.
Чем мы можем вам помочь?»
ГЛАВА 5
Элиот сладко опал, хотя кишки у него бунтовали.
Зато дурные сны, видно, снились унитазу в тесной конторской уборной. Он вздыхал, всхлипывал, захлебываясь вещал, что тонет. На его бачке громоздились консервы, журнал «Нэшнл джиогрэфик» и налоговые бланки. В умывальнике, в холодной воде, мокли чашка с ложкой. Дверцы аптечки над раковиной были распахнуты. Аптечка ломилась от лекарств: витаминов, таблеток против головной боли, мазей от геморроя и всевозможных слабительных и снотворных. Элиот всем этим исправно пичкал себя, но запасал лекарства не только для собственных нужд. Он раздавал их всем, кто к нему приходил, — у каждого водилась какая-нибудь хворь.
Любви, понимания, небольших денежных ссуд его подопечным было мало. Их приходилось еще и лечить.
* * *В Вашингтоне отец Элиота громко сетовал, зачем они с Элиотом оба не умерли.
— У меня появилась одна идея, правда, примитивная, — сказал Мак-Аллистер.
— Последняя ваша примитивная идея обошлась мне в восемьдесят семь миллионов долларов.
Мак-Аллистер устало улыбнулся, давая понять, что не думает извиняться за идею создания Фонда Розуотера. Ведь если на то пошло, Фонд сделал свое дело — весь капитал передали от отца к сыну, не уступив сборщикам налогов ни цента. Мак-Аллистер вряд ли мог предвидеть, что сын окажется «с приветом».
— Я хотел бы предложить Элиоту и Сильвии в последний раз попробовать примириться.
Сильвия покачала головой.
— Нет, — прошептала она, — простите, нет.
Она свернулась клубочком в глубоком кресле. Сбросила туфли. Лицо ее — безупречный голубовато-белый овал, волосы — черные, как вороново крыло. Под глазами темнеют круги.
— Нет.
* * *Сенатор смахнул портрет Элиота с камина.
— Разве ее можно упрекнуть? Кому охота снова ложиться в постель с этим подзаборным забулдыгой, который приходится мне сыном?
Он извинился за грубость своих слов:
— Старикам, утратившим всякие надежды, свойственно выражаться точно и грубо. Прошу прощения.
Сильвия опустила голову, подняла ее снова:
— Я не считаю его подзаборным забулдыгой.
— А я считаю, и бог мне судья! Каждый раз, когда мне приходится на него смотреть, я говорю себе: «Отменная стартовая площадка для эпидемии тифа!» Не старайтесь щадить меня, Сильвия. Мой сын не заслуживает, чтоб его женой была порядочная женщина. Он заслужил именно то, что получил, — слюнявую преданность всяких шлюх, сводников, воров и симулянтов.
— Они вовсе не такие, отец.
— По-моему, Элиота только потому к ним и тянет, что в них нет решительно ничего хорошего.
Сильвия, с ее двумя нервными срывами в прошлом, с весьма туманными видами на будущее, тихо произнесла именно то, что посоветовал бы ей врач:
— Я не хочу спорить.
— Неужели вы считаете, что о поступках Элиота все еще можно спорить?
— Да. Если мне сегодня ничего другого объяснить не удастся, я хотела бы, чтобы стало ясно одно: то, что делает Элиот, правильно. То, что делает Элиот, прекрасно, Просто я не так сильна и не так добра, чтобы помогать ему дальше. Во всем виновата одна я.
Мучительное, беспомощное недоумение изобразилось на лице сенатора:
— Да назовите мне хоть одну хорошую черту у этих людей, которым помогает Элиот.
— Не могу.
— Я так и думал.
— Это секрет, — сказала Сильвия: ее втягивали в спор, и она цеплялась за каждый предлог в надежде прекратить его.
Не понимая, как безжалостно он рвется напролом, сенатор продолжал упорствовать:
— Вы среди друзей, неужели вы не можете открыть нам этот ужасный секрет?
— Секрет в том, что все они — люди, — сказала Сильвия. Она вглядывалась в лица вокруг себя, надеясь заметить хоть искру понимания. Напрасно. Последний, на кого она перевела глаза, был Норман Мушари. Мушари осклабился алчно и с вожделением. Улыбка его была чудовищно неуместна.
Сильвия торопливо извинилась, выбежала в ванную и разрыдалась.
* * *А в Розуотере тем временем гремел гром — он насмерть перепугал пятнистую собачонку в доме пожарной дружины, и она выползла на улицу в нервических конвульсиях. Вся трясясь, собачонка остановилась посреди мостовой. Редкие уличные фонари тускло мерцали. Кроме них, улицу освещали только синяя лампочка над входом в подвал суда, где ютилась полиция, красная лампочка над входом в пожарное управление и белая — в телефонной будке напротив пилгородской кофейни, которая одновременно служила автобусной станцией.
Прогромыхал раскат грома. В блеске молнии все вокруг засверкало иссиня-белыми бриллиантами.
Собачонка помчалась к Фонду Розуотера, заскреблась в дверь и завыла. Элиот наверху спокойно спал. Его жутковато-прозрачная рубашка «стирай-носи», свисающая на плечиках с потолочной балки, покачивалась как привидение.
Снова раздался оглушительный удар грома.
— Да, да! Сейчас! — проговорил во сне Элиот.
Того и гляди зазвонит черный телефон у его постели. Элиот тогда вскочит и как раз на третьем звонке схватит трубку. Он выпалит то, что говорит всегда, как бы пи было поздно:
— Фонд Розуотера слушает. Чем мы можем вам помочь?
И Сенатор воображал, что Элиот якшается с преступниками. Но он заблуждался. У большинства подопечных Элиота не хватило бы пороху пойти по такой опасной дорожке. Однако ничуть не меньше заблуждался на счет своих подопечных и сам Элиот, особенно когда отстаивал их перед отцом, банкирами и юристами. Он твердил, что эти люди, кому он пытается помочь, сделаны из того же теста, что их предки, которые несколько поколений назад расчищали леса, осушали болота, строили мосты, без чьих сыновей в дни войны не было бы пехоты — и так далее. На самом же деле люди, искавшие в Элиоте опоры, были куда более хилыми, чем их предки, и куда более бестолковыми. Недаром, когда их сыновьям приходил срок идти на военную службу, их признавали негодными из-за умственной, моральной и физической неполноценности.
Находились среди бедняков округа и люди покрепче — эти из гордости никогда не обращались к Элиоту, обходились без его всепрощающей любви. У них хватало духа плюнуть на округ Розуотер и искать работу в Индианаполисе, Чикаго или Детройте. Конечно, устроиться там удавалось немногим, но по крайней мере они хоть не сидели сложа руки.
* * *Черному телефону предстояло сейчас соединить Элиота с шестидесятивосьмилетней старой девой, непроходимой дурой, по мнению большинства. Звали ее Диана Лун Ламлерс. Ее никто никогда не любил. Ее не за что было любить. Она была глупой, уродливой и нудной. В тех редких случаях, когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, она обычно называла свое имя и фамилию полностью и добавляла загадочное уравнение, по вине которого неизвестно зачем появилась на свет:
— Моя мать — Лун, мой отец — Ламперс.
* * *Эта помесь Лун и Ламперса была служанкой в гобеленово-кирпичном особняке Розуотеров, который считался постоянным местом жительства сенатора, но где на самом деле он каждый год проводил не более десяти дней. Все остальные триста пятьдесят пять дней в году Диана пребывала в двадцати шести комнатах одна-одинешенька. В полном одиночестве она убирала, чистила и скребла без передышки, не имея даже приятной возможности отвести душу — отругать кого-нибудь за беспорядок.