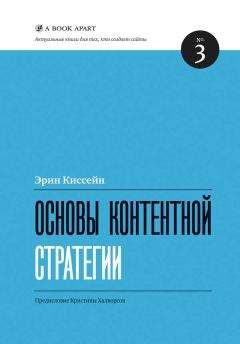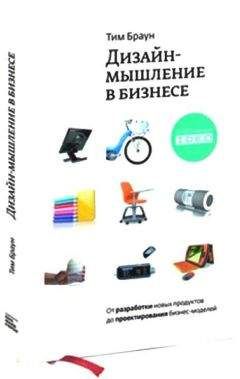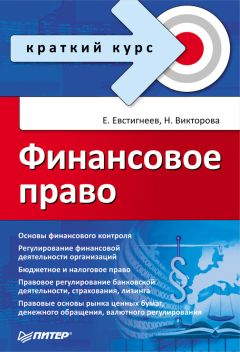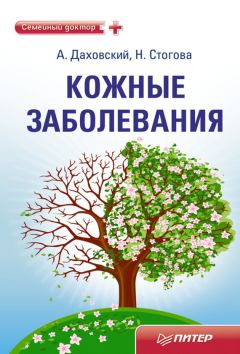Русская фольклорная демонология - Рябов Владимир
В различных славянских традициях вера в ходячих покойников базируется на представлении о двух категориях умерших.
К первой категории относятся «правильные» [1484] покойники — «родители» [1485], «деды» [1486], «покойники уважаемые и почитаемые, много раз в году “поминаемые”» [1487]. Как правило, это люди, умершие естественной смертью в преклонном возрасте, распрощавшиеся с миром живых и перешедшие в мир мертвых с соблюдением всех необходимых традиций и ритуалов. Взаимодействие с ними «подчинено установленному порядку, согласно которому они большую часть времени пребывают в загробном пространстве и лишь в определенные периоды возвращаются в земной мир, который обязаны покинуть в установленный срок» [1488]. Такие покойники, как правило, благожелательны к живым людям при условии, что те соблюдают регламент поведения по отношению к умершим (в первую очередь устраивают поминальные трапезы должным образом) [1489].

Кладбище. Рисунок Ивана Билибина. 1904 г.
Билибин И. Я. Кемь. Кладбище.(арх. губ), 1904 [Изоматериал]: [Открытка] — Санкт-Петербург: Картографическое заведение А. Ильина, 1905
Ко второй категории могут быть отнесены дети, умершие некрещенными, и вообще умершие в молодом возрасте люди, а также утопившиеся и утонувшие, замерзшие насмерть, опойцы (умершие пьяными, от пьянства), самоубийцы и убитые, умершие ведьмы и колдуны, люди, оплаканные или похороненные с нарушением культурных норм. Эти мертвецы осмысляются как «неправильные» и не могут сразу после смерти отправиться на тот свет: «ребенок, умерший без крещения, не идет ни в ад, ни в рай, а обрекается на вечное скитание» [1490], «душу непохороненного человека на тот свет не пускают, пока тело не будет предано земле» [1491], «проклятые родителями, опившиеся, утопленники, колдуны и прочие после своей смерти одинаково выходят из могил и бродят по свету; их, говорят, земля не принимает» [1492]. Такие покойники остаются на земле, «скитаются», находятся как будто на границе между жизнью и смертью, пока не истечет отпущенный им срок и не наступит предначертанный свыше момент смерти. Так, в рассказе из Новгородской области человеку является мертвец, «погубленный» матерью при родах, потому умерший некрещенным. Он говорит, что ему «смерть была назначена от Бога в сямнадцатилетнем возрасте», и теперь приходит срок, когда его должно убить молнией, после чего он окончательно покинет мир живых [1493].
Исследователь русской мифологии и фольклора Д. К. Зеле-нин дал этой категории мертвецов название «заложные покойники» [1494]. Этот термин, как отмечает исследователь, был известен на Вятке и связан с особым способом погребения таких покойников, существовавшим в прошлом: их не зарывали в землю, а «закладывали», огораживали сооружением из досок или кольев [1495]. Действительно, согласно фольклорно-этнографическим свидетельствам, для «заложных» предполагались особые места захоронений. Например, удавленников могли хоронить под кладбищенской оградой: «А в сяредке, где настоящие покойники похоронены, — кладбище, — их [удавленников — В. Р.] не хоронили. А их где-нибудь в углу, вот так, под оградой» [1496]. Согласно свидетельству из Владимирской губернии, опойц (умерших от пьянства или в пьяном виде) хоронили в овраге, это место в дальнейшем считалось «нечистым»: «Да и не пройти никак! Тут и блазнит [чудится, мерещится — В. Р.], сколько случаев бывало!» [1497] В сообщении из Новгородской области самоубийц (удавленников и утопленников) хоронили на кладбище для скота [1498].

Могила самоубийцы. Картина Витольда Прушковского (фрагмент). 1881 г.
Национальный музей Польши, Варшава
На основании ряда текстов можно сделать вывод, что покойников «держат» на земле эмоционально насыщенные отношения с живыми, часто — чрезмерная тоска живых по умершему: «как будешь жалеть, плакать, то [покойники — В. Р.] покажутся» [1499]. Во многих текстах умершая мать является к своим живым детям [1500], мертвый муж — к тоскующей жене [1501], бабушка — к внучке [1502]. Чрезмерная скорбь выражалась в продолжительном плаче, мольбах и сетованиях: «[молодая вдова — В. Р.] очень плакала и потом стала Богу молитца, просить: “Хосподи, хоть бы он [покойный муж — В. Р.] мне во сне приснился!”» [1503], «был у одной девушки жених и умер. Она смотрела в окошко по направлению к его могилке и говорила: “Если бы мой жених теперь пришел ко мне сейчас хоть мертвый, я поехала бы с ним хоть на край света”» [1504]. «[Жены после и узнали — В. Р.], што те [их мужья — В. Р.] померли. Да и говорят: — Хотя бы мертвыми повидать» [1505]. Такая нужда беспокоит мертвеца, не дает ему окончательно покинуть мир живых, побуждает его возвращаться на землю; сам скорбящий в итоге зачастую умирает, отправляясь вслед за тем, по кому он скорбит.
Еще одна причина возвращения мертвеца — незавершенные земные дела, невыполненные обязательства. В одной из историй покойный священник является своим преемникам «весь обвязанный железными цепями» и пугает их до смерти. В итоге оказывается, что священник при жизни «деньги за поминовение брал, а поминать не поминал». После того как новый священник выполняет работу своего предшественника, покойник перестает являться [1506]. В рассказе из Новгородской области девушка обещает парню встретить его на вокзале, но умирает раньше. Тем не менее она возвращается и выполняет обещание.
Рассказывали еще, что вот парень с девушкой гуляли. Забирают его в армию, а она обещалась ему писать, и говорит: «Я тебя на вокзал приду встречать в белом платье». Ну вот год проходит, писем нет от девушки. Приходит парень, а она его на вокзале встречает в белом платье. Ну и дружки его тут, ну пошли в ресторан, ну взял он ей красного вина, а ребятам водки. Тосты-то стали говорить, а она и пролей себе на платье, сделалось три красных пятна, на белом-то платье. Ну она, мол, говорит: «Пойду да замою». Ну, вышла она, а ее ждут, а ее все нет. Ну, они к матери, а мать им говорит, что вы мне, мол, мозги вставляете, она год ужо как померла. Ну настояли они, свидетелей-то много, что она жива, так открыли гроб-то, а она и правда лежит, а на платье три пятна, трехдневной давности. Вот что мне рассказывали [1507].