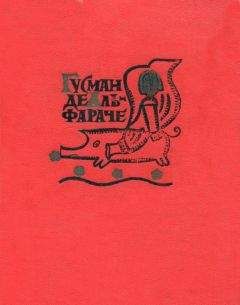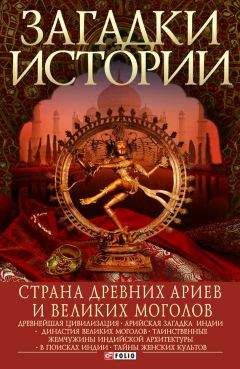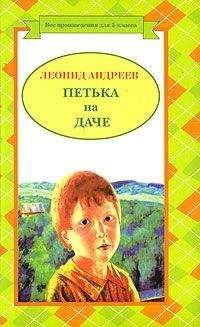Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
Приехав в Гранаду, дон Луис, никому не сказываясь, продержал Осмина при себе несколько дней, покуда их величества не повелели привести юношу во дворец. Осмин предстал перед королем и королевой, которые радушно встретили его и, попросив остаться, призвали Дараху. Судите сами о нежданной радости и волнении обоих влюбленных, которые уже не чаяли свидеться, да еще в таком месте. Королева подошла к ним и сказала, — хотя Дарахе о том было уже известно, — что их отцы приняли христианство. И еще спросила государыня, желают ли и они стать христианами, пообещав, если согласятся, всякие милости, но только с условием, чтобы они обратились в новую веру не из любви к королеве или из страха, а лишь из любви к господу и ради спасения души, ибо отныне они вольны располагать собой и своим имуществом по собственному желанию.
Отвечая государыне, Осмин, казалось, не одними устами, а тысячью уст хотел бы воздать благодарность за столь высокую честь; он сказал, что желает принять крещение, и попросил у королевской четы о том же для супруги своей Дарахи, которая, не сводя глаз с любимого, плакала от счастья. Устремив на короля и королеву глаза, полные слез, Дараха молвила, что, ежели по воле божией им суждено было познать свет истинной веры, придя к нему столь трудными путями, она, Дараха, от всего сердца желает того же, что и ее супруг, и повинуется государю и государыне, под чью высокую руку и покровительство они себя отдают.
Оба они были крещены; его нарекли Фердинандом, а ее Изабеллой, в честь короля и королевы, которые были их крестными, а несколько дней спустя посажеными отцом и матерью на свадьбе. Королевская чета щедро одарила новобрачных, которые поселились в Гранаде и положили начало знаменитому роду.
В глубоком молчании выслушали мы эту историю, и тут показалась перед нами Касалья; каноник не иначе как соразмерил длину своей повести с длиной пути, хотя изложил ее куда более пространно и искусно, чем я сумел пересказать. Погонщик, за все это время не вымолвивший ни слова, как, впрочем, и все мы, первый подал голос и сказал:
— Ну-ка, сеньоры, дальше идите пешочком; мне надо сворачивать вон на ту тропу, к давильням.
А мне он буркнул:
— Что ж, сударик мой, не пора ли рассчитаться?
Только этого еще не хватало, подумал я! А мне-то казалось, что он помогал мне из добрых чувств. В смущении я не знал, что ответить, и лишь спросил, сколько ему должен за то, что проехал верхом девять лиг.
— А ты заплати мне то же, что и эти сеньоры. Да еще с тебя причитается три реала за харчи и ночевку на постоялом дворе.
Я решил, что он слишком дорого оценил лошачьи потроха, да и денег таких у меня не было.
— Послушай, братец, — сказал я, — вот тебе моя доля за харчи и ночевку, а за осла я ничего не должен: ведь ты сам предложил мне ехать верхом, я об этом и не просил.
— Ишь какой умный! Черта с два разрешил бы я тебе задаром кататься, — возразил он.
Начали мы тут препираться, а каноники — мирить нас, и под конец присудили мне уплатить за корм, съеденный ослом в прошлую ночь. Так я и сделал; в кошельке моем оставалось всего двадцать мараведи, которыми я и рассчитался. Погонщик свернул к винодельческой усадьбе, а мы с канониками зашагали в Касалью, где и распрощались, после чего каждый из нас двинулся дальше своей дорогой.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА I
о том, как Гусман де Альфараче покинул Касалью и отправился в Мадрид, но по пути нанялся к трактирщику
Итак, в понедельник утром я очутился в Касалье, в двенадцати лигах от Севильи; кошелек мой истощился, а с ним заодно и терпение, остался я без всяких средств и — в ознаменование будущего — уже побывал в ворах. Худо мне пришлось в первый день, а во второй и того хуже: заботы меня одолели, от горя бежал, да в беду попал. Пока деньги были, была и еда, а с нею беда не беда. Хорошо, когда есть отец и мать, но первое дело — иметь что жрать.
Третий день чуть не стал моим последним днем, все сошлось одно к одному. Я походил на затравленного голодного пса — целая стая его окружила, а он знай лишь зубы скалит да на всех бросается, хотя никого не кусает. Так и на меня напали злыдни, обступили кольцом; а хуже всего, что не было ни денег, ни способа добыть пропитание. Тут-то я понял, как хорош грош и как мы им не дорожим, пока не надо его добывать, и цены ему не знаем, пока он в кошельке.
Нужда впервые показала мне свое гнусное обличье, и я сразу понял ее суть, — хотя все ее свойства открылись мне позже, — как она толкает нас на подлые дела, прельщает опасными мечтами, ввергает в позор, как подстрекает к безумствам и заставляет свершать невозможное. Я постиг, сколь мало надо человеку, и, однако ж, как ни щедра наша мать-природа, все недовольны: все мнят себя бедняками, все кричат о своей нужде. О безрассудный эпикуреец, чревоугодник и мот, ты хвалишься, что проедаешь доход в столько-то тысяч дукатов! Верю, столько ты имеешь, но разве способен ты все это проесть? А если и впрямь проедаешь, на что тогда жалуешься? Ведь ты такой же человек, как и я, а для меня гнилая чечевица, червивые бобы, жесткий горох и изгрызенный мышами сухарь — сытная еда. Может, тебе известно, как это так получается? Мне — нет.
Но терпишь ли ты нужду или, что вероятнее, прикидываешься, не моя то печаль, я о своей горюю. Недаром говорят, что нужда — великая наставница, хитроумная изобретательница — научила болтать даже дроздов, сорок, соек и попугаев[107].
Довелось и мне изведать, как враждебная фортуна вразумляет людей. Будто новый свет озарил меня, и я, как в зеркале, увидел свое прошлое, настоящее и будущее. До той поры был я птенцом желторотым, про каких говорят: «Вдовий сын к потачке приучен, уму-разуму не научен». С годами жизнь меня обстрогала, но первым ударом тесла была эта невзгода. Так солоно мне тогда пришлось, что и не рассказать. Я понял, что погибаю, тону в открытом море и не ведаю, как добраться до гавани, ибо, неразумный юнец, я пустился вплавь без опыта и знаний. Чуя погибель, я жаждал доброго совета, да не знал, к кому обратиться.
Принялся я приводить в порядок свои счета. Итог был неутешительный — расходов много, дохода никакого. Уходить из Касальи мне не хотелось, так как продолжать путь было не на что, а вернуться домой я тоже не мог. Мне было стыдно снова показаться на глаза матери, друзьям и родным. О господи, сколько довелось мне потом видеть бед из-за этого проклятого «мне было стыдно»! Сколько девиц потеряло себя, полагая, что стыдно не быть любезной со щеголем, если он дарит кулек сластей и сонет в придачу или заказывает серенаду, прельщая сердца песней, не им сочиненной и наемным певцом спетой! Сколько мошенников нашло себе поручителей, которые разорились, заплатив чужие долги, и пустили по миру родных детей! Сколько денег было дано взаймы из дружбы, а друг, глядишь, обанкрутился и не вернул долга — так что и заимодавцу нечего есть, и должнику мало проку, а попросить свои деньги обратно эти глупцы не решаются, им, видите ли, стыдно!
Так знай же, если еще не знаешь, что стыд подобен основе на ткацком станке: порвется одна нить, и вся ткань разлезется. Ежели случится тебе такое дело, от которого, кроме убытка и явного вреда, нечего ждать, распускай эту ткань, рви ее нити, и ручаюсь, ты не побранишь меня за совет. А огорчения, уготованные тебе, если бы ты уважил просьбу, пусть достанутся просителю, — ты же его не слушай и помни: лишь глупцы стыдятся людской молвы. Стыдись самого себя, бойся даже наедине совершить низкий и бесчестный поступок, а что до остального, какое тебе дело до цвета и покроя чужих мнений? Где надо, отпускай свой стыд на волю, не держи его на цепи, как собаку, у дверей своего недомыслия. Отвяжи его — пусть бегает, пусть резвится. Стыдись, как я уже сказал, одного — поступать бесстыдно, а то, что ты называешь стыдом, всего-навсего твоя глупость. Не будь мне тогда стыдно, не пришлось бы теперь изводить столько бумаги на этот том, а ведь к числу его страниц я мог бы добавить еще много нулей, Но надо спешить, чтобы поведать тебе хоть самое главное в моей жизни, ежели господь продлит ее для этого дела.
Вот я и говорю, что мне было обидно, уйдя в плаще, возвращаться без него, оставшись, как говорится, на бобах. Я покинул родной дом и полагал, что выкажу малодушие, если вернусь; это стало для меня вопросом чести. Смотри не вздумай и ты сказать: «Это для меня вопрос чести!» Ага, голубушка-честь, попалась мне в руки, теперь я сдеру чепец с твоей головы! Ужо потреплю твои космы, спуску не дам! Давно я на тебя зубы точу. Отомщу за все, наступлю тебе на глотку, сокрушу вконец.
О, если бы господу было угодно, чтобы я понял тогда же, а ты, тщеславный юнец, спесивый муж или безмозглый старик, хоть теперь уразумел, что такое честь, ради которой ты творишь безрассудства и покорствуешь бредням. Но еще не пришло время заняться гармонией к мелодии этих слов. А слово я свое сдержу, разоблачу эту ложную честь и раскрою тебе глаза. Дай срок, доберусь и до нее.