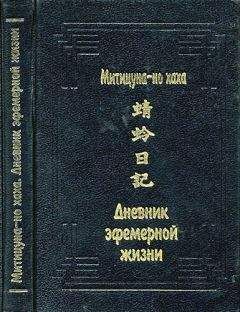Митицуна-но хаха - Дневник эфемерной жизни (с иллюстрациями)
Числа двадцать четвертого мне приснилось, что волосы на моей голове острижены и челка убрана — как у монахини. Еще дней через семь-восемь я увидела, как змея, которая как будто живет у меня в утробе, ползет и пожирает мою печень, а чтобы избавиться от нее, мне нужно на лицо лить воду. Не знаю, были ли те сны хорошими или плохими, но я записываю их, чтобы те, кто интересуется моей судьбой, установили, что у снов и у будд достойно веры, а что — нет.
Наступила пятая луна. От людей, которые оставались в моем доме, получила письмо: «Как Вы считаете, не будет ли дурным знаком, если убрать ирисы на карнизах, несмотря на Ваше отсутствие?». Будет ли что теперь дурным знаком…
Я обитаю
В этом мире
Полна печали.
И мне до ирисов
Забот недостает.
Это стихотворение я хотела было отослать им, но, так как дома некому было разделить мои мысли, я оставила его при себе. Так встретила сумерки.
Так завершился мой обряд затворничества, я снова переезжала на привычное место, и скука охватила меня с еще большей силой. Шли долгие дожди, отчего трава в садике бурно разрослась, и в просветах между дождями я ее прореживала.
Однажды перед моими воротами с обычным для себя гвалтом проследовала свита Канэиэ. Я как раз совершала молитву, и когда мои люди зашумели:
— Сюда, сюда следует! — я подумала, что произойдет то же самое, что и всегда, к моей груди подступил комок, и, когда экипаж Канэиэ проехал мимо, все лишь молча уставились друг на друга. Сама я два или три часа не могла вымолвить ни слова. Дамы мои говорили:
— Что это такое? Ну, что у него за сердце?! — И плакали.
— Это действительно несчастье, — отвечала я, силясь сохранить самообладание, — так получилось из-за того, что я до сих пор живу в этой усадьбе: я опять попалась ему на глаза
В моих словах совершенно не проявлялось то, что я сама сгорала от любви к нему.
В первый день шестой луны от Канэиэ пришло письмо с пометой: «Говорят, Вы соблюдаете затворничество, поэтому письмо положено в подворотню». Я была очень удивлена, а когда бумагу развернула и прочла, то увидела в ней: «Твое затворничество уже должно было закончиться. До каких пор ты думаешь продолжать его? То, что я не могу тебя навестить, — так неудобно! А потом я молился, совершил осквернение, теперь очищаюсь».
«Конечно, он должен был знать, что я уже вернулась», — думала я с некоторой досадой, однако подавила свои чувства и написала ответ. «Очень странное письмо, — писала я, — от кого бы оно могло быть? Я возвратилась довольно давно, но у тебя, конечно, до сих пор не было возможности узнать об этом. Тем не менее, теперь ты часто ездишь мимо моего дома в места, где обо мне не думается. Вообще говоря, это моя ошибка, что я живу в этом мире, но тебе я ничего об этом писать не стану».
Мне стало в тягость писать даже эти редкие письма — свидетельства моих сожалений о прошлом — и постоянно приходило на ум, что все будет повторяться. В западных горах есть буддийский храм, куда я обычно езжу, и теперь я вздумала уехать туда еще до того, как закончится затворничество у Канэиэ, и четвертого числа отправилась в дорогу.
Поскольку сегодня как раз был тот день, когда, по моим подсчетам, у него заканчивалось затворничество, я нервничала, и тут под одной из верхних циновок[38] кто-то обнаружил бумажный сверток с лекарствами, которые Канэиэ принимал по утрам. Я брала его с собой, когда переезжала в отцовский дом
— Что это? — спросила я, взяла лекарства, снова завернула их в бумагу и на ней написала:
Они не перестали ждать
Здесь, под циновкой,
И потому не знают,
Пригодятся или нет.
О, как это печально.
А кроме того, добавила: «Хоть и говорилось в старину: „Переменить бы обстановку…“ — сегодня я мечтаю о том мире, в котором ты не будешь перед моим взором проезжать мимо. В этом и заключается мое странное высказывание, о котором меня не спрашивали».
Я отдала письмо сыну, наказав ему:
— Передай отцу, а после этого мы сразу затворимся. Чтобы он знал о нашем затворничестве.
Потом отправила его, напутствуя такими словами:
— Если он начнет задавать вопросы, ты отвечай: «Вот, мол, написала и сразу уехала. Я должен тоже отправляться следом».
Прочтя мое письмо, Канэиэ подумал, что я поступаю так сгоряча, и ответил мне: «Все это, конечно, правда, но прежде всего, скажи, куда ты направляешься? И теперь не самый лучший сезон для поездок. Хоть на этот раз послушай, что тебе говорят. Остановись. Если тебе нужно посоветоваться со мною, я сейчас же приеду,
В тебе то странно,
Что лишь доверюсь я,
Так обманусь —
Твоя душа,
Как встречная волна».
Когда я это увидела, выехала еще поспешнее.
Горная дорога была не особенно хороша, но мне она была иногда до боли знакомой, вызывая воспоминания. Когда я была нездорова, примерно в эту пору проезжала по той же дороге и останавливалась здесь на два, три или четыре дня. И тогда Канэиэ прерывал свои служебные дела, и в этом храме мы с ним затворялись вместе. Я все думала об этом, дорога была дальняя, и мои слезы текли и текли. Со мною ехали трое сопровождающих.
Сначала мы остановились в кельях священнослужителей, и когда я выглянула наружу, то перед собой, в садике, окруженном изгородью, увидела, как густо растут неизвестные мне травы, и среди них, вызывая чувство жалости, виднелись кусты пионов. Листья на них уже опали, и я вспомнила высказывание: «И цветы имеют час расцвета»[39]. Стало очень грустно.
Когда я уже выкупалась и собралась в главный павильон, из дому ко мне приехала взволнованная дама. От тех, кто остался, было письмо. В нем говорилось: «Только что от господина прибыл какой-то посыльный с весточкой. Он сказал нам: „Ваша госпожа собирается отбыть на поклонение в храм. Чуть-чуть задержите ее. Сейчас сюда изволит приехать господин“. Мы ему ответили как есть: „Уже изволила отбыть. Такая-то и такая-то сопровождает ее“. „Господин так беспокоится, почему она затеяла все это. Как я доложу ему обо всем?“. Тогда мы рассказали, как Вы жили эти месяцы, про Ваше паломничество, посыльный же заплакал и скоро возвратился назад со словами: „Что бы там ни было, надо быстрее обо всем доложить!“ Поэтому скоро Вы, должно быть, получите вести от господина. Приготовьтесь».
Стало быть, мои дамы простодушно рассказали этому посыльному, где я. Это совершенно невыносимо. «Значит, сколь бы осквернена я ни была, — думала я, — завтра-послезавтра нужно отсюда уезжать». В спешке помывшись, я поднялась в пагоду.
Было жарко, и на некоторое время я оставила дверь открытой и выглядывала наружу. Пагода заметно возвышалась над окрестностями. Окруженная горами, она была вроде как за пазухой у них. Густо растущие деревья были очень интересны, но из-за позднего времени теперь уже было темно. Монахи занялись приготовлением к ранней ночной службе, и я могла молиться при открытых дверях. В это время четырежды подули в раковину, которой в этом горном храме оповещали о службах.
У главных ворот храма вдруг раздался шум и послышались громкие голоса:
— Прочь с дороги, с дороги!
Я опустила поднятые шторы и выглянула: в промежутках между деревьями виднелись где два, где три факела. Это был Канэиэ. Когда сын выбежал к нему навстречу, отец, не выходя из экипажа, сказал ему:
— Я сюда приехал за вами. До нынешнего дня мать пребывает в скверне, поэтому я не могу спуститься на землю. Куда поставить экипаж? — он был совершенно как обезумевший.
Мальчик передал мне, что ему было сказано, и я послала его назад с ответным словом, где для начала написала так: «Что ты подумал об этом моем странном путешествии? Я сама решила оставаться здесь только эту ночь. Может быть, тебе не стоит осквернять это место нечистотой? Становится уже поздно. Пожалуйста, возвращайся поскорее домой».
Сын после этого часто уходил и приходил с такими письмами. Бегая вверх и вниз по каменной лестнице длиною около одного тё[40] мальчик очень устал. Мои дамы прониклись к нему состраданием:
— Ой, как его жалко!
Сын ходил-ходил между нами и расплакался:
— Он сказал, что это я во всем виноват. И вид у него плохой.
Но я стояла на своем:
— Отчего он не может вернуться домой?
— Ну, хорошо, — заявил наконец Канэиэ, — поскольку я в скверне, то не могу здесь оставаться[41]. Как же мне быть? Запрягайте быков!
Услышав это, я испытала большое облегчение. Но сын пришел в слезах:
— Отец уезжает. Я отправляюсь вслед за его экипажем. Сюда больше не приеду! — и убежал.
«Как мог мой сын, — думала я, — на которого я стала полагаться больше всего, сказать мне такое?!» Но я ничего не произнесла вслух, а когда все уехали, увидела, что мальчик вернулся: