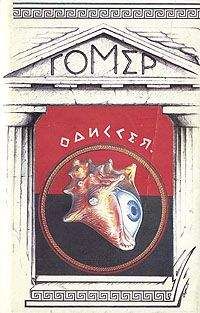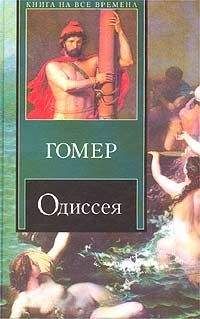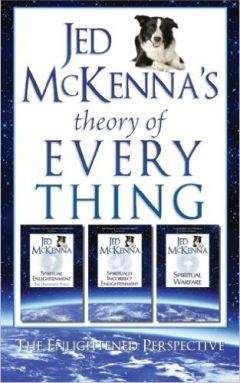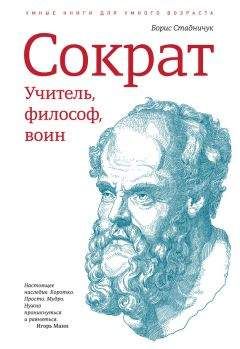Александр Дюма - Большой кулинарный словарь
В это время перед дверью остановилась двуколка господина Корбьера, в которой сидела его кухарка, отправлявшаяся в Сен-Поль за продуктами.
Мария отказалась ехать с ней, заявляя, что у нас хватит еды на неделю. В результате я попросил кухарку Корбьера купить для нас все к хорошему супу потофё и пару цыплят.
Между девятью и десятью часами явился Корбьер и открыл мне все секреты доставленных продуктов.
Скат был от моего верного Робино, омар — от господина Друе, французского скульптора, проводившего лето в Роскоффе, камбала — от художника по фамилии Буке, который шесть летних месяцев жил в Роскоффе, а шесть зимних — в Париже; обе макрели были подарены комиссаром морского флота. Я сразу же написал каждому из них и велел отнести им мои письма.
До 5 часов вечера все нанесли мне визиты, и я познакомился с моими поставщиками. Все они, независимо от занимаемого положения, начиная с моего цирюльника Робино и кончая комиссаром флота, оказались заядлыми рыбаками. Самая лучшая рыбалка бывала у них в часы большого прилива, поэтому рыба была в изобилии.
Днем я отправился посидеть в саду моего соседа. Чтобы всем была понятна диспозиция, скажу, что его дом стоял фасадом к морю и был построен на той стороне улицы, которая была дальше от моря, но со стороны фасада шла лишь небольшая решетка, а за ней — полный цветов сад, благоухающий резедой, где хозяин приглашал меня проводить мои ленивые минуты.
Едва я устроился, как пришел он сам с бутылкой хереса и рюмками на подносе. Так что мы познакомились с рюмками в руках — великолепный способ знакомства! — и мы чокнулись за наше доброе здравие.
Да сохранит Господь этому прекрасному человеку его натуру — одну из самых лучших, самых искренних, самых замечательных натур, какие я когда-либо знал! Он всегда старался оказать вам услугу, угостить вас каким-нибудь фруктом и при этом был так добр, искренен, наивен, что вам всегда нужно было принять от него и услугу, и фрукт — все, и большое и малое, что бы он вам ни предлагал.
В этом саду я проводил часть моего дня, я еще серьезно не принялся за работу и пользовался оставшимся отдыхом, чтобы с удовольствием понаблюдать за окружающим меня миром.
В округе стало известно, что я приходил в сад около четырех часов. К этому времени появлялись во множестве посетители, и у нас организовался кружок. Вид на море лучше всего годится для того, чтобы все люди почувствовали себя непринужденно. Необозримость моря способствует такой широте мыслей, что никому никогда не приходило в голову прерывать мечтания человека, который погружен в них на берегу океана.
Мы оставались в этом саду до заката солнца, после чего возвращались ко мне домой. Почти всегда Друе просил приносить туда свой обед, и это продолжалось до тех пор, пока его брат не приехал из Кохинхина: тогда мы организовали с ними общий стол.
При всем изобилии рыбы, нам не хватало почти всего остального. Артишоки были жесткими, как пушечные ядра, стручки фасоли — водянистыми, свежее сливочное масло полностью отсутствовало — таковы были те странные детали, на которые следовало опираться при написании кулинарной книги.
При этом я работал не меньше чем, если бы меня окружало самое изысканное изобилие.
Все это можно было бы терпеть, не будь у нас перед глазами нахмуренного лица нашей кухарки, которая сердилась из-за того, что мы нашли способ жить и чем-то питаться там, где она надеялась увидеть нас умирающими от голода. Наконец однажды она взорвалась, обругала всех и потребовала расчет. Через день она уехала в Париж, и я прошу вас об одном: никогда не есть ее стряпню.
Заметили ли вы, дорогой друг, что каждый раз, когда мы в чем-то идем навстречу человеку из низшего сословия, за нашу доброту нам всегда приходится так или иначе расплачиваться?
Вот перед нами девушка, которой было хорошо в Мэзон-Лаффите, где она жила, как хозяйка дома. Мы заговорили о путешествии на край Франции — заискивая, она заставила нас поверить, будто настолько привязана к нам, что не может нас покинуть.
Мы всегда поддаемся словам тех, кто твердит, как любит нас, и даже словам подобных наемных работников, которые не любят никого.
Мы поверили этой женщине: я два месяца продержал ее в Париже, где она ничего не делала. Я платил ей жалованье, когда она не работала; потом я повез ее с нами. Спустя две недели, надеясь поставить меня в затруднительное положение, она потребовала расчет.
На следующее утро после ее отъезда у меня оказалось четыре кухарки вместо одной. В этой стране, где на самом деле ничего нельзя было найти, но добрая воля возмещала все. Мы каждый день обедали то у одного, то у другого, и сердечное веселье напоминало бы мне дни моей юности, если бы хоть что-то могло их напомнить.
Тут я и увидел, на что способны дружеская поддержка и доброжелательность.
В этой местности, где ощущался недостаток во всем, казалось, сошлись самые изысканные продукты: цыплята, откормленные зерном, свежее масло, самые лучшие персики, фиги, подобные марсельским и неаполитанским. По-моему, мы однажды ели пулярку из Манса и паштет из Шартра.
Для меня в этом стремлении поскорее устроить для меня праздник было нечто, вызывавшее на глазах слезы. Были еще и очаровательные мелкие детали, которые можем заметить только мы, люди искусства.
В Роскоффе есть несчастная бесхозная собака, живущая за счет общественной благотворительности. Каждый господин из купальщиков, приезжающих на летний сезон, берет ее под свое покровительство и предоставляет ей кров и пищу.
Собаку зовут Бобино. В год милосердия 1869 покровителем Бобино был Друе. Пока Друе оставался дома, Бобино жил своей обычной жизнью и ел у Друе на Жемчужной улице. Труднее было с его ночлегом из-за трех или четырех собак, считавших себя владелицами дома, поскольку жили в нем раньше.
Когда мы объединились для обедов, и Друе стал ходить обедать ко мне, Бобино растерялся: будет ли он и впредь есть там же, где Друе? Не возникнут ли с его обедами те же затруднения, как с ночлегом? Бобино выглядит подавленным и униженным, потому что он беден: его научили этому его трапезы без продолжения, не похожие одна на другую. Кроме того, он безобразен и достаточно умен, чтобы это осознавать. Впрочем, одно успокаивало его: несколько раз он уже ходил обедать вместе с Друе, и каждый раз был хорошо принят.
Когда Друе пришел уже как постоянный участник обедов, Бобино остановился в дверях, поскольку Друе не решался взять на себя смелость ввести собаку за собой; Бобино так и остался бы в дверях, тем более что наша кухарка, ни к кому не питавшая симпатий, испытывала к нему отвращение. Но по моему приглашению, Друе позвал Бобино, тот проскользнул под стол и не шевелился больше, как будто был не собакой, а набитым соломой чучелом. Такое поведение оказалось для него крайне удачным: каждый отдал ему остатки своего супа, свои куриные кости, свой пропитанный соусом хлеб — и Бобино великолепно пообедал.
На следующее утро Бобино не счел уместным дожидаться Друе, а явился раньше него, уселся на улице на самом видном месте, уставившись на мои окна, и подметал мостовую хвостом каждый раз, когда я появлялся.
Однако всех моих приглашений оказалось недостаточно, чтобы заставить Бобино подняться в дом. Всякий раз, как я звал его, пес смотрел в сторону Жемчужной улицы и, не видя приближающегося Друе, который на самом деле ввел его в мой дом, Бобино тряс головой, как бы говоря: «Я приличная собака, знаю светские манеры и войду к вам лишь вместе с человеком, который привел меня в первый раз».
И действительно, вплоть до того дня, когда я покинул Роскофф, Бобино всегда являлся за четверть часа или за полчаса до Друе и никогда не входил в дом без него.
Другим моим другом, одним из самых смиренных, но не принадлежавшим к числу наименее полезных, был мой цирюльник Робино, тот, кто в первые дни после нашего приезда ночью ходил ловить рыбу, чтобы покормить меня днем.
Спустя месяц после того, как он начал заботиться о растительности на моем лице, я спросил, сколько я ему должен.
Не знаю, насколько вас это интересует, мой дорогой друг, но в Париже я отдаю моему цирюльнику 15 франков в месяц.
— Месье, — ответил Робино, весь дрожа, так как чувствовал, что сейчас решается важный вопрос его жизни, а я заранее знал, что бедный малый не был богат, — месье, я не называю мою цену, каждый дает мне от щедрот своих: одни — 20 су, другие — 40 су, а самые великодушные — иногда и 3 франка.
— А сколько я вам должен за вашу добычу на ночных рыбалках? — спросил я.
— О, месье! — воскликнул Робино. — Вы же не станете обижать меня, отдавая мне деньги за тех трех несчастных рыб, которых я вам дал.
— Ладно, мой милый Робино, я принимаю эту вашу деликатность. Позвольте мне лишь относиться к вам так, как к моему парижскому цирюльнику, и уплатить вам за месяц 15 франков.