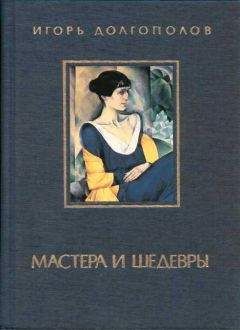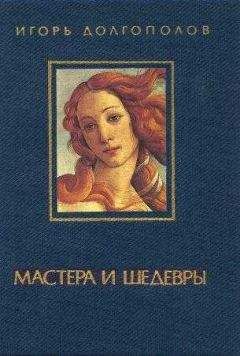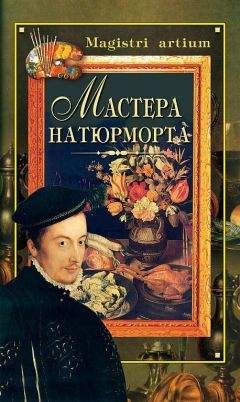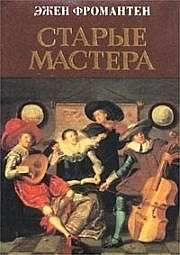Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2
«И вот мы подъехали к дому. Залаяли собаки на колокольчик, выбежала на крыльцо Мария Павловна, вышел закутанный Антон Павлович, в сумерках вгляделся, кто со мной, — маленькая пауза, — и оба кинулись друг к другу, так крепко схватили друг друга за руки — и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах: о дороге, о погоде, о Москве, будто ничего не случилось. Но за ужином, когда я видела, как влажным блеском подергивались прекрасные глаза Левитана и как весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича, я была ужасно довольна сама собой.
Золотая осень.
… Не раз острые боли, спазмы заставляли художника мгновенно терять сознание. Он падал. На улице. На выставках. Дома. Его спасали врачи… Недуг крепчал. Левитан все знал, старался сидеть в мастерской и бешено работал.
Однажды к нему пришел Павел Михайлович Третьяков и не торопясь, со свойственным ему спокойствием рассказал о жутких, безлюдных похоронах некогда знаменитого Саврасова…
Ваганьково. Швейцар Училища живописи, ваяния и зодчества Плаксин да родные. Никто больше (кроме самого Третьякова) не пришел проводить в последний путь замечательного художника.
Все его забыли…
Отслужили панихиду и разошлись.
Исаак Ильич Левитан задумался. Больной, высохший, он не первый раз помышлял о смерти.
Но как ни страшна кончина, не должна она пугать настоящего художника…
У него нет смерти.
Есть два рождения.
Первое — когда он появился на свет, второе — когда он умер.
Тогда он остается навечно.
Живет его искусство.
Живописец зябко поежился. Хотелось пройтись, развеять тоску.
Он оделся и вышел на Кузнецкий.
Потом пошел вниз на Солянку. Места, где он провел юность. Дома ничуть не изменились.
Так же суетился, спешил куда-то люд.
Толкались нищие, пьяные старухи.
Рядом была Хитровка.
Вдруг его чуть не сбил с ног высокий бородач. Левитан увидел одутловатое лицо. Пахнуло перегаром… Художник вздрогнул. Перед ним был двойник Саврасова.
Та же стать. Коричневое пальтишко. Картуз.
А главное — глаза, светлые, добрые.
Левитан плотнее запахнул воротник пальто и поспешил домой. Встреча с юностью обернулась трагикомедией… Кровь леденела от безысходности, нищеты и пьянства, которые он увидел.
Через неделю в газете «Русские ведомости» была опубликована статья Левитана о своем учителе — «По поводу смерти А. К. Саврасова».
Читаем:
«Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а, наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной стране… Он создал русский пейзаж».
Это был поистине венок ученика на скромную могилу Саврасова.
Шло неумолимое время. Работа, болезни. Работа, работа… Но иногда выпадали какие-то особенно светлые минуты.
Вчитайтесь в это письмо Левитана к Чехову:
«Только что вернулся из театра, где давали «Чайку»… Я только ее понял теперь. Здесь… она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я не совсем еще очухался, но сознаю одно: я пережил высокохудожественные минуты, смотря на «Чайку». От нее веет той грустью, которой веет от жизни, когда всматриваешься в нее. Хорошо, очень хорошо!»
Как точно говорил художник, умевший видеть! Как понятна его грусть!
Чехов пишет приятелю:
«Я выслушивал Левитана: дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук — слышится пф-тук. Это называется в медицине «шум с первым временем»…»
Живописца посылают за границу на ванны. Лечение оказывает благотворное действие.
Левитану лучше. Он немедленно принимается писать, «а то так рано складывать оружие — больно». И вдруг узнает о неизлечимой болезни Чехова.
Левитан пишет ему:
«Ах, зачем ты болен, зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица!»
И вопреки всему оба работают, работают…
Как-то в мастерскую Левитана попросился критик Виктор Гольцев.
Скажем прямо, что достойный литератор не любил пейзаж, он уважал жанр, критический реализм…
Но, побыв пару часов в студии Левитана и пораженный радугой его творений, он сказал позже:
«Вот сторонник идейного искусства выходит из мастерской глубоко умиленный. Не противоречие ли это? Нет, нет, тысячу раз нет. Облаками, волною, порывом бури художник ничего не может доказать, но он истолковывает нам природу. Так картины мог написать только человек, который глубоко, поэтично любит родную природу, любит той любовью, какой любил Лермонтов — «с вечерними огнями печальных деревень», за эту сознательную любовь, за одухотворение природы нельзя в достаточной степени отблагодарить Левитана».
Силы мастера тают… Но он не бросает работы. Он пишет пластично и дерзко. Его кисть, несмотря на немощь руки, наносит уверенные, сильные удары. Не все принимают «последнюю манеру» Левитана, но мастер ищет правду и находит ее в творениях широких и поэтичных.
Однажды на выставку передвижников прибыл Николай И.
Поглядев на пейзажи Левитана, он заметил, что «художник, очевидно, стал выставлять незаконченные работы».
Присутствовавший при этом автор проговорил:
«Ваше величество, я считаю эти картины вполне законченными».
Это был скандал.
Как смел художник дерзить самому императору!
Живописец пишет Марии Павловне Чеховой:
«Мало работаю — невероятно скоро устаю. Да, я израсходовался вконец, и нечем жить дальше. Должно быть, допел свою песню.
И все-таки Левитан не мог уйти из жизни, не повидав любимого друга.
Он посылает в Ялту Чехову телеграмму-шутку:
Летний вечер.
«Сегодня жди знаменитого академика»…
Встреча двух больших друзей.
Оба скрывают свою смертельную болезнь.
Лишь легкое покашливание Антона Павловича напоминает о хвори. Они гуляют по набережной у моря.
Их узнают.
Приветствуют.
Художник подарил Чехову на память пейзаж. Картина понравилась Антону Павловичу.
Он написал О. Л. Книппер:
«У нас Левитан. На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна…»
… Весною, в марте 1900 года, мастерскую Левитана посетил Нестеров. Завязалась долгая, сокровенная беседа.
С глазу на глаз, о самом святом и главном.
Как отразить красу Родины, всю глубину духовности ее природы.
Быстро летело время.
В окно заглянули звезды.
Левитан решил проводить товарища…
Они шли рядом, рука об руку, по московским бульварам. Пахло талым снегом, весной…
Они мечтали о новых выставках, картинах, вспоминали студенческие годы, юность.
— Как странно, — сказал Левитан Нестерову, — вот, кажется, только вчера мы говорили с Костей Коровиным, а прошло почти четверть века, и он журил меня, что я пессимист и плакса. Теперь я пишу мажорные пейзажи, хоть и собираюсь умирать. А Костя с каждым годом все грустнеет. Да, жизнь пройдена, но вот мы так и не знаем тайну смерти.
Исаак Ильич говорил горячо.
— Мы идем по ночной Москве — тишина, загадочность, бульвары, шелестят деревья. О чем — тайна! О чем говорят эти глаза — окна домов, розовые, желтые, голубые, — лишь химера, обман… За всем этим лишь одна смерть. Земля, могила.
Где-то звенела конка, чьи-то каблучки стучали по тротуару.
Левитан остановился. Он тяжело дышал.
Лицо его в свете фонарей было восково-бледно.
Озеро.
— Я еще мальчишкой чуял, что жизнь и смерть — это вроде карусели, только лошадки разные. Я, например, сейчас пишу картины, и, может быть, меня запомнят, а какой-нибудь торгаш сгинет, и вскоре его забудут. Люди всегда остаются людьми, и их мать — природа. Поэтому человек тоскует, когда один остается с пейзажем. Начинают звучать тайные струны его души.
Ветер раскачивал ветви деревьев, и длинные тени бродили по бульвару. Нестеров вдруг заметил слезы на глазах друга.
— Никогда не забуду Плеса, — сказал Левитан, — там понял свое призвание и оттуда вот этот талисман.
Художник откинул полу пальто и достал из сюртука платок. Развернул его. В свете фонаря на белом платке виднелась маленькая монетка.
— Это копейка, — проговорил Левитан. — Я сидел у церквушки в Плесе и писал. Подошла бабушка в черном, повязанная платком. Лицо все в паутине морщин. Темное, как лик иконный. А глаза светлые… Улыбнулась мне и положила монетку на крышку этюдника. Видно, приняла меня за убогого.