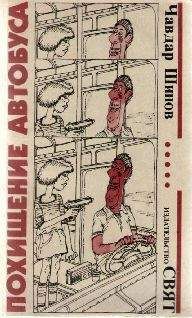Владимир Файнберг - Здесь и теперь
Раздался звонок в дверь.
— Нужно все в корне менять, — сказал я, вставая. — Всё!
— За этим я и приехал в Москву. — Нурлиев смотрел снизу вверх вопрошающе, будто я мог ответить на его незаданный вопрос.
…Раздевшись, Нодар Шервашидзе первым делом стал показывать рентгеновские снимки мне, Анне, заодно и Нурлиеву.
— Видите? Камня нет! Почка чистая, мочеточник чистый, все чистое! Я себя прекрасно чувствую.
Я смотрел на снимок и ничего не понимал в этом чередовании чёрных и белых пятен.
— Возьми на память! Я у тебя первый такой больной? — ревниво спросил Нодар.
— Кажется, первый.
— Давайте наконец обедать, — сказала Анна. Она бережно взяла снимки, спрятала их в секретер.
За обедом, рассказывая о моём пребывании на раскопках, Нодар обратил внимание на сюзане, висящее над тахтой.
— А это откуда?
— Азия, — ответил я. — В начале зимы был в командировке, приобрёл.
— Случайно, конечно?
— Будем считать, случайно.
— А что тут изображено — вы все отдаёте себе отчёт?
— Наверное, орнамент, — ответила Анна. — Безумной красоты.
— А вы? — обратился Нодар к Нурлиеву. — Это же, наверное, из ваших краёв?
— Из наших. Старинная вещь. Какой‑то смысл старые люди здесь видели. Несомненно.
— Но вы хотя бы догадываетесь, что здесь изображено?
— Нет. Дедушка мой, быть может, понимал…
— Дайте что‑нибудь вместо указки! — Нодар встал из‑за стола, шагнул к тахте.
Я достал в углу между стенкой и секретером верхнее колено удочки, подал ему.
— Смотрите! В центре малый круг малинового цвета — солнце. Его окружает широкая жёлтая полоса с зубцами наружу. Это — его энергия, его лучи. Вокруг — ещё более широкий малиновый овал, на нём разбросано восемь жёлтых, похожих на пламя свечи пятен. Марс, Земля, Венера, Сатурн, Уран, Юпитер, Меркурий, Плутон. Восемь планет нашей Солнечной системы. Все это обнимают соединённые между собой широкие чёрные завитки на белом фоне. Как думаете, что это значит?
— Неужели галактика? — спросила Анна.
— Галактика! — подтвердил Нодар. — Но вглядитесь, что изображено дальше — по всем краям замечательного сюзане. Эти прихотливо извивающиеся чёрные дракончики — не что иное, как соседние вселенные… В целом, друзья, перед нами карта Космоса…
— Какого же века эта работа? — спросил я.
— Восемнадцатого или девятнадцатого. Неважно. Женщина, которая вышивала по белому шёлку эту карту, могла понятия не иметь о том, что она передаёт эстафету древнейших знаний. Интересно, сколько заплатил за бесценную вещь?
— Шестьдесят пять рублей.
— Считай, получил даром. Везет!
— Ему вообще везёт, — сказала Анна. — Не понимает.
— Это откуда смотреть, — возразил Нурлиев. — Если из космоса — быть может… Но не дай Бог всем, как достаётся Артуру. Да ещё только что мать схоронил…
Зазвонил телефон. Я не снял трубку. Сидели молча, отдавая дань памяти матери.
Потом Анна сказала:
— Пока вы здесь, я хочу просить воздействовать на этого человека. Уже несколько дней подряд звонят, напоминают: Союз писателей оформил его поездку в Испанию. Артур даже говорить об этом не хочет. Я с ним сделать ничего не могу. Именно сейчас ему надо бы переключиться, сменить обстановку.
— Когда надо ехать? — спросил Нурлиев.
— Через три недели, — ответил я. — Глупости всё это. Кто я такой, чтоб оказаться в Испании? Для меня Испания — что одна из этих вселенных на краю сюзане.
— И деньги есть! — вмешалась Анна. — Бог послал ему деньги.
— Что ты изображаешь пришибленного? — сказал Нодар. — По–моему, хоть мало знакомы, это на тебя не похоже…
— Не похоже, — согласился Нурлиев. — А я его давно знаю. Смотри, у женщины слезы на глазах, так она хочет тебе счастья.
2Я, оказывается, пропустил много занятий в лаборатории. Поездка с Нодаром, похороны мамы… Настал апрель. Сегодня вечером пришёл, слушаю отчёты. Большинство несёт такую ахинею — стыдно присутствовать. У одного чешется копчик — проснулась змея Кундалини, другой общается с неземной цивилизацией. Маргарите каждую ночь снится Елена Рерих, учит делать некий талисман…
Поглядываю на Йовайшу. Тот невозмутим.
Лишь полковник авиации Оскар Анатольевич и ещё несколько человек, безусловно, продвигаются. У полковника открылась способность видеть сквозь закрытые приборы — электронные и другие — любую неисправность. Он просит поставить объективные опыты, с комиссией.
После конца занятий я наконец дорвался до Йовайши. За полночь разговаривали в его кабинетике. Рассказывал о своих приключениях в Грузии. А потом спросил: неужели он не видит, что большинство слушателей несёт околесицу, вздор?
— Вижу, — ответил Иовайша, и я впервые отметил, что он может быть печальным. — Мало того, что они не занимаются, обманывают меня, будто делают упражнения… Они компрометируют нас. К лаборатории стали присматриваться как к рассаднику мистики. Это очень опасно. Но как быть? Из сорока человек вашей группы лишь десять–двенадцать ушли вперёд. И вы в том числе. Не такой уж плохой процент. Остальные приходят провести время, обмениваются сомнительной литературой, болтают. Знаете, есть такая притча: осел, ходя вокруг жернова, прошёл сто километров. Когда его отвязали, он находился все на том же месте. Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются.
3За высокими зашторенными окнами зала оглушительно чирикают воробьи. А здесь изо всех сил старается улыбнуться Чаплин. Он смотрит на нас, уже умерший, и, словно эстафету, передаёт улыбку.
Снизу вверх смотрим мы на экран.
Нас двадцать — будущих кинорежиссёров. Два года воробьиный щебет сопровождает парад шедевров мирового кино. От ветра шторы вздымаются парусами надежды. Московское солнце заглядывает в зал.
За время учёбы на Высших режиссёрских курсах я понял: подлинное искусство не делится на жанры. В жизни улыбка и слезы всегда вместе. Это на потребу мировому мещанству кино поделилось на комическое, развлекательное, приключенческое.. Лишь бы глазеть, а не видеть, не думать…
Глава двадцать четвёртая
Двадцать третьего апреля здесь отмечался день святого Георгия, день роз и день смерти Сервантеса.
Перед ужином в трёхзвёздном отеле, где разместилась туристская группа, я попросил испанского гида Хорхе позвонить по телефону, который мне дала Анна.
За одним из столиков облицованного мрамором вестибюля сидел широкоплечий черноусый красавец с газетой в руках. С того места, где я стоял, было видно, что он не столько читает её, сколько внимательно оглядывает каждого входящего и выходящего из отеля.
Еще дальше — через проход за длинной лакированной стойкой — перемещались одетые в синюю униформу портье и его молодой помощник.
Передав мне трубку телефона, Хорхе шепнул:
— Портье — фашист. После Франко многие устроились в отелях администраторами.
— Алло! Это Катя? — спросил я, продолжая глядеть на фашиста.
— Боже мой, кто это? Вы из Москвы?
— Еще утром был в Москве. Меня зовут Артур Крамер. Привез вам привет от Анны.
— Как она там? Давно не пишет, беспокоюсь. Завтра в десять утра могу за вами подъехать? Где вы остановились?
— Отель «Expo», номер 966. Но лучше встретиться перед входом. — Я описал свои приметы, чтоб Катя узнала меня, повесил трубку, спросил у Хорхе, кивнув на черноусого красавца: — А это охранник?
— Тайная полиция, — ответил тот и, словно извиняясь, добавил: — Ведь у нас терроризм. — Хорхе отлично владел русским и вообще был, что называется, свой парень. — Жаль, в вашей программе нет бульвара Рамбла. Кто не был там ночью, тот не узнает Барселоны.
После ужина я предупредил руководителя группы, что вернусь поздно. Спускаясь озеркаленным лифтом из ресторана в вестибюль, увидел у одной из кнопок знакомое слово — «Alarm». И словно замкнулось кольцо в цепочке жизни.
Прошел между стойкой, где фашист вершил какие‑то расчёты на микрокалькуляторе, и креслом, на котором сидел со своей газетой агент тайной полиции, толкнул тяжёлую стеклянную дверь и вышел.
Весь день со времени посадки самолёта в Барселоне заняло размещение в отеле, экскурсия в музей Пикассо, обед, ознакомительная поездка по городу. В сущности, это мало чем отличалось от цветного документального фильма.
Лишь сейчас, вечером, шагая широкими тротуарами Барселоны, я почувствовал, что оказался в Испании.
Затерянный в толпе прохожих, снова, как полгода назад, вдруг увидел себя сверху, со стороны. Тогда, одинокий, на грани отчаяния, ждал последнего автобуса в начале улицы Народного ополчения…
Сейчас, через шесть месяцев, наделённый могучей силой, древней, как мир, и не признанной миром, направлялся на другом конце Европы мимо платанов и пальм, перемежаемых фонарями, к бульвару Рамбла, выводящему, как я увидел это на карте путеводителя, к порту, к Средиземному морю.