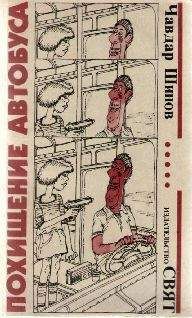Владимир Файнберг - Здесь и теперь
— Психическое. Проще говоря — бред.
— Вы уверены? Я хочу немедленно перевести маму в другую больницу. Или забрать домой.
— Ну что вы?! Зачем так нервничать? Тем более — её нельзя транспортировать. — Врач потянулся в шкаф, чтоб снять пальто.
— А бить человека, да ещё беспомощного, можно? Имейте в виду — есть свидетели.
Врач бросил на диван пальто, шагнул ко мне.
— Я вас очень понимаю. Но вы же знаете: не хватает персонала, нянечек, сестёр. Всякое бывает. Мы сейчас отыщем санитарку, поговорим с сестрой. Кстати, чтоб не терять времени, давайте лекарства, пока не ушёл, сам сделаю укол…
— Отдайте мне маму. Я хочу её отсюда забрать.
— Видите ли, наша задача — вылечить маму. А мы, повторяю, теряем время. Давайте лекарства. Все ваши претензии я передам зам. главного врача по лечебной части, как раз буду идти мимо административного корпуса, договорились?
Я вытащил из карманов коробки с лекарствами, отдал.
— Между нами говоря, — тихо добавил врач, — виноваты не мы, а вся эта система…
— Советская власть, что ли?
Тот ничего не ответил, снова стал надевать халат. Потом сказал:
— Мой вам совет. Мы сейчас найдём санитарку — дайте ей денег. Медсестре тоже.
…Перед тем как сделать матери укол, врач приподнял одеяло, пощупал простыни. Они были насквозь мокрые. Он вызвал медсестру, велел отыскать санитарку, принести чистое белье и ещё две подушки.
Санитарка оказалась грузной, неторопливой бабой со щёлочками заплывших глаз. Вместе с медсестрой она, ворча, сменила матери постель. Врач сделал укол гамалона, оставил лекарства в тумбочке, написал подробное назначение.
— Что ей нужно привезти? — спросил я, пока тот не ушёл.
— Ничего. Разве что провёрнутый в мясорубке чернослив. Мед… И не забудьте сделать то, что я посоветовал.
— Но и вы не забудьте сказать там администрации. — Я чувствовал, что меня сломали, и добавил: — Я останусь здесь.
Врач вышел вслед за медсестрой.
— А я тоже мокрая, — сказала тихая беленькая старушка.
Санитарка посмотрела на неё с ненавистью и направилась с охапкой грязных простынь к двери.
Я стоял посреди палаты. Мать лежала на высоких подушках с закрытыми глазами. (Врач сказал, чтоб непременно лежала высоко, иначе может произойти отёк мозга.)
Третья старуха, чернявая, спросила:
— Сколько заплатил‑то? Ишь устроили, словно королеву…
Я бросился в коридор за санитаркой. Догнал её возле кладовой.
— Извините, как вас зовут?
— Анфиса. А чего надо? — Узкие хитрые глазки проницательно уставились на меня.
— Вы ещё будете дежурить?
— До утра, до восьми.
— Анфиса, вот вам двадцать пять рублей. Хватит? Я тоже останусь здесь. Поможете приглядеть за матерью? Ну, если понадобятся сухие простыни или ещё чего…
— Где это останетесь? У нас не заведено, — ответила она, забирая деньги и высоко отворачивая полу халата, чтоб спрятать их в кармане кофты. — Ладно уж. Пригляжу. Поезжайте домой.
— И ещё одна просьба. Понимаете ли, там другой женщине тоже нужно все поменять. Я сам всё сделаю, только дайте, пожалуйста, комплект.
— Сам? Да ей уж ничего не надо. Глядишь, к утру помрёт. Они все тут помирают.
— Все? — с ужасом переспросил я.
Не ответив, Анфиса полезла в тесную кладовку, с трудом развернулась, выдала комплект.
Я понёс его в палату.
Мать спала. Дыхание, казалось, стало спокойным. Я повернулся к беленькой старушке.
— Бабушка, вы меня слышите? Давайте перестелимся.
Хотя старушка была худенькая, невесомая, я с непривычки умаялся, вытягивая из‑под неё мокрые простыни, клеёнку. Потом начал подстилать сухое.
— Что здесь происходит?
На пороге палаты стояла высокая женщина в халате, накинутом поверх шубы.
— Это ваша больная?
— Нет. Эта, — я кивнул на мать.
Женщина подошла к кровати, взяла мать за кисть руки.
— Можете спокойно идти домой. Она спит. Здесь оставаться нельзя.
— Нет уж, останусь.
— А я вам говорю — идите домой. Приемные часы окончились. Придете завтра.
— Я боюсь оставить маму.
— Знаю. Мне сказали. Как заместитель главного врача по лечебной части убедительно прошу вас уйти. Такие мнительные родственники, как вы, только возбуждают больных, приносят вред.
— Вы уверены?
— Абсолютно. Я посижу с вашей мамой, проверю пульс, давление. А вы идите. Отдыхайте.
…Лишь в автобусе я спохватился, что забыл дать денег медсестре.
По дороге домой успел вбежать до закрытия в магазин «Дары природы». Повезло. Там были чернослив, мёд; купил две бутылки сока — яблочного и виноградного.
— Как дела? — спросила Анна, лишь только я переступил порог.
Прошел прямо на кухню, стал вытаскивать и никак не мог вытащить из карманов пальто бутылки, пакеты. Анна помогла, повесила одежду на вешалку, усадила.
Бутылок с соком почему‑то стало семь. Не сразу сообразил, что это Анна уже позаботилась. Подумал: надо было позвонить ей, волновалась. Не было сил рассказывать о чём бы то ни было. Не было сил.
Передо мной стояла тарелка с дымящимся картофельным пюре и сосисками. Чай дымился в чашке. Поверху плавал кружок лимона.
— Очень прошу тебя поесть. Тебе тут дозванивалась Надя из киностудии и женщина из Союза писателей. — Анна погладила меня по голове.
Я поел, выпил чаю. И лишь потом увидел натаявшую с ботинок лужицу на полу, вымытом мамой.
— Спасибо. Тут чернослив, пожалуйста, проверни через мясорубку.
Вошел в комнату, раскрыл записную книжку, чтоб позвонить Наденьке, хоть на минуту отвлечься. Мелькнула страница с мамиными прыгающими буквами…
— Артур! Как я рада, что вы появились. У меня Костя болеет, в школу не ходит. Взяла бюллетень по уходу. И вот сегодня днём звонит знакомая, помните, у которой мы слушали Игнатьича?
— Помню.
— Представляете, что случилось?! Конец света не наступил! Игнатьич пришёл в милицию, говорит: «Вяжите меня, я вводил людей в соблазн!» Те его выгнали. Тогда он опять объявился на Рижском вокзале и стал там каяться… Забрали прямо в психбольницу. Наверное, нужно срочно встретиться, подумать, посоветоваться?
— Наденька, не могу.
— А почему у вас такой голос?
— У меня мама умирает.
Когда положил трубку, Анна спросила:
— Зачем ты так говоришь? Нехорошо говорить так…
Я смолчал.
Среди ночи поднялся, вышел на кухню, закрыл за собой дверь и, не зажигая света, сел за стол.
Вот тут, напротив, обычно сидела мать. Я представил себе её аккуратно причёсанную голову со сверкающими каплями воды на волосах после умывания. Почему‑то мама была связана с утром, только с утром, всю жизнь.
Закрыл глаза. В воображении пытался проникнуть за эти жаркие карие очи, за этот смуглый лоб, на котором почти не было морщин, проникнуть туда, в левую половину мозга, где произошёл разрыв сосуда.
Увидев наконец тёмное пятно разлившейся крови, приподнял левую руку, но привычного струения энергии не ощутил. И розовых полос не было видно. Включил свет. Сблизил пальцы левой и правой рук, развёл. Полос не было. Только теперь я понял, насколько вымотан, обесточен. К тому же трепетала боязнь навредить. Без обратной связи лучше было и не пытаться вмешиваться. «Скольким людям помог, а маме не могу», — с горечью подумал я. А может, вообще невозможно вылечить родного по крови? Вступают в силу законы генетики? Но вспомнилась совсем чужая женщина с воспалением седалищного нерва… Не смог не только вылечить — даже снять боль.
Подошел к окну, пригляделся. В чистом небе слабо мерцали звёздочки. Снова закрыл глаза. Перед мысленным взором торжественно и грозно возник ледяной, сверкающий звёздами космос…
И странное, ни с чем не сравнимое спокойствие нашло на меня.
«Смерти нет, — вслух сказали губы. — Нет смерти».
…В восемь утра Анна повезла меня в больницу.
— Не настраивайся на плохое, ладно? — поцеловала, передала сумку с продуктами. — После работы я тоже приеду к пяти часам, можно?
Поднимаясь на лифте, я думал о том, что забыл дома открывалку для бутылок с соком.
На этот раз не стал стучаться, отворил дверь палаты, вошёл, и первое, что увидел, — валяющееся на полу у материнской постели одеяло, раскрытую настежь фрамугу. Мать лежала под сбившейся простыней на сквозняке. Лежала низко. Голова её свалилась с подушек.
Схватил одеяло, накрыл её, приподнял, подсунул подушки под затылок.
Мать была в забытьи, тело дрожало, дыхание вырывалось с трудом.
— Мама, мама, ты слышишь меня?
Глаза её приоткрылись. Они смотрели невидяще.
— Это я, мама, мамочка ты моя, это я, Артур.
Губы её дрогнули, силились что‑то сказать.
Доставая записную книжку, авторучку, спохватился, что не закрыл фрамугу. Куцые верёвки свисали сверху. Я вскочил на подоконник, захлопнул её и, спрыгивая, только теперь обратил внимание: кровать, где вчера была маленькая старушка, пуста. Лишь скатанный матрац поперёк проволочной сетки.