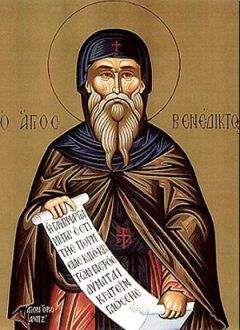Георгий Чистяков - С Евангелием в руках
Как во фресках, которые видит в своем воображении поэт, так и в его размышлениях в «Чистилище» грусти и тоске всегда сопутствует радость, а в воздухе витает какая-то светлая печаль. Это «мир сердечной теплоты, проникнутый печалью», как говорит де Санктис.
Тени, встречающиеся поэту на его пути наверх, задумчивы, они грустят, вспоминают о близких, о тех, кто им особенно дорог, плачут, но не терзаются.
Чувство, которое ими владеет, обозначается у Данте словом disio, которое почти невозможно перевести ни на один язык: это любовь и тоска, радость и печаль одновременно. Вечером, говорит поэт, нас томит печаль, а колокольный звон издалека оплакивает кончающийся день, словно умершего. Утром, когда рассеивается туман, на небе появляется солнце; оно в Чистилище сияет, но при этом здесь у Данте всегда царит раннее утро или, наоборот, вечер, но не день.
Утром «наложница древнего Тифона», то есть гомеровская «с перстами пурпурными Эос» или Аврора из поэмы Вергилия, покинув объятья своего сладостного друга, «выходит в белом на балкон». На этих стихах, с которых начинается IX песнь, нельзя не остановиться. Образ, в основе своей гомеровский, по какой-то причине мгновенно претворяется в куртуазный, обычный для поэзии трубадуров: час свидания заканчивается, и прекрасная дама на заре выпархивает на балкон. Это так называемая альба, или песня зари. В Чистилище любовь ушла в прошлое, но она не умерла и не забыта; вообще забывать о том, кто был тебе дорог, по-настоящему страшно – вот еще одна из повторяющихся в «Чистилище» максим.
Чистилище – это встреча. «Тени, здесь и там, лобзаньем спешат друг к другу на ходу прильнуть и кратким утешаются свиданьем». Так Стаций бросается навстречу Вергилию и пытается обнять его, забыв, что ни у того, ни у другого нет плоти (так некогда у Гомера Одиссей безуспешно пытался обнять в Аиде свою мать Антиклею, трижды заключая ее в объятья и каждый раз обнаруживая, что обнимает воздух). Эту же сцену повторил в «Энеиде» Вергилий, рассказав, как Эней бросился навстречу своему отцу Анхизу и, подобно Одиссею, трижды пытался обнять его, но «трижды, объятый напрасно, из рук выскальзывал образ». Сам Данте встречает своего друга Каселлу (II песнь): «Как в смертном теле, – молвил дух тогда, – тебя любил я, так люблю вне тленья».
Люди в «Чистилище» не забывают друг друга, молятся не о себе, а о своих близких, волнуются за родных, грустят при разлуке и не забывают прошлого (в отличие от Чистилища у Вергилия, где о прошлом необходимо забыть). Души сохраняют в памяти то лучшее, что их соединяло, – вот что такое Чистилище у Данте. На трудном пути к вершинам человек не развоплощается, как думал Платон, для возвращения к прежней жизни в новом теле и не сгорает в «очистительном огне» для вхождения в жизнь вечную, как считал святой Григорий Великий, а с трудом, но всё же очищается от лени, злобы, гордыни, уныния, скупости и других пороков. При этом он сохраняет свое «я» и свои привязанности. Данте говорит, вероятно, не столько о жизни после смерти, сколько о той дороге, по которой каждый из нас приближается к смерти, о последнем периоде жизни здесь, о годах, когда человеку уже, действительно, надо прислушаться к словам святого Франциска: «Братья, пока у нас есть время, будем творить добро».
Впервые опубл.: Русская мысль. 1998. № 4211 (26 февраля – 4 марта). С. 14. (под заголовком «Мы шли всё выше (Purg. XV, 40)»).Путешествие души
В апреле 2000 года исполнилось 700 лет с того дня, на который сам Данте в «Божественной комедии» указал как на дату своей встречи с тенью Вергилия в преддверии Ада. «Когда я потерял первую радость моей души, – рассказывает Данте о смерти Беатриче Портинари, умершей в 1290 году, – меня охватила такая печаль, что бессильно было всякое утешение». Именно тогда поэт начал читать латинские книги, в частности Боэция, что ему было трудновато из-за слабого знания грамматики, ибо, хотя потом он будет не только читать, но и писать на латыни превосходно, в те годы он, уже взрослый человек, только начинал по-настоящему учиться. Так мало-помалу один из активных участников политических скандалов во Флоренции рубежа XIII и XIV веков превращался в ученого и поэта, но прежде всего – в современника каждого из тех, кто прочитает его книгу.
Molte cose, quasi come sognando, gia vedeà, – говорит об этом периоде своей жизни Данте в трактате «Пир», над которым он работал с 1303 по 1307 год. «Многое я уже тогда видел словно как во сне». Вот, пожалуй, первое упоминание о том духовном опыте, который ляжет в основу «Божественной комедии». Пройдет еще несколько лет, и поэт напишет свое знаменитое «я очутился в сумрачном лесу».
«Не помню сам, как я вошел туда (io non so ben ridir, com’ i’ v’intrai), – продолжает он свой рассказ, – настолько сон меня опутал». Pieno di sonno, «во сне», или, скорее, «захваченный сном», начинает Данте свое странствие через глубины Ада, греха и порока с одной ясно обозначенной целью – чтобы riveder le stelle, «вновь увидеть звезды». Только тогда он сможет по-новому восславить Того, говорит по-итальянски поэт в последнем параграфе написанной вскоре после смерти Беатриче «Новой жизни», che è sire de la cortesia, «Кто есть Владыка сущего», – Бога, qui est per omnia saecula benedictus, «Который благословен во вся веки». Так латинской кодой заканчивает Данте свою «Новую жизнь», в которой до этого не употребляет ни одного латинского выражения, как бы превращая ее всю, от начала до конца, в молитву, в «надгробное рыдание» по своей ушедшей из жизни возлюбленной, заканчивающееся встречей с нею, еще не явленной, но уже ощущаемой.
Данте не может сказать, как именно попал он (com’ io v’entrai) в сумрачный лес и преддверие Ада. Этот вопрос поэт сознательно оставляет без ответа, ибо его поэма – не отчет о том, что с ним произошло в действительности, и не фантастический роман вроде путешествий на Луну Лукиана из Самосаты или Сирано де Бержерака, но «странствие души», осуществившееся nella mia mente («в моей душе») или nelpensier, то есть «в мыслях», иными словами – переживание, которое никоим образом нельзя понимать буквально. Надо сказать, что итальянское слова mente, происходящее от латинского mens, во времена Данте в отличие от слова ragwm (рассудок) широко использовалось (как и в латыни) именно в тех случаях, когда речь шла о сердце или душе, о памяти или вообще о внутреннем мире именно в иррациональном его аспекте.
При этом Данте точнейшим образом указывает, когда началось это странствие. Это было в конце Великого поста 1300 года, либо в день Благовещения, либо вечером в Великую пятницу (она приходилась в тот год на 7 апреля), в тот самый момент, когда вспоминается сошествие Спасителя во Ад. Не случайно Вергилий, умерший, как известно, в 19 году до Р.Х., в IV песни «Ада» говорит, что вскоре после того, как он умер, ему удалось увидеть, как сюда спускался un possente con segno di vittoria coronato. Как язычник автор «Энеиды» не называет Иисуса по имени, поскольку не знал Его при жизни, и сообщает только, что видел (ключевой глагол всей поэмы), как в Ад приходил «власть имеющий в венце и со знаком победы».
Данте вкладывает эти слова в уста Вергилия, величайшего поэта былых времен, и это вполне оправданно. По-итальянски слова эти звучат и в высшей степени лаконично, и выпукло, и ярко. При этом читатель не просто запоминает их, но узнаёт, ибо каждое слово в этой фразе взято либо из Евангелия, либо из достаточно хорошо известных современникам Данте церковных песнопений Страстной седмицы. Таким образом, можно смело говорить о том, что странствие Данте по Аду начинается с того, что поэт сначала подводит своего читателя к известной теперь каждому надписи над вратами ада Per me si va… («Я увожу к отверженным селеньям…»), а затем, желая укрепить его духовно, обращает его взор на словесную икону нисхождения во Ад.
Данте описал свое духовное путешествие, или путешествие души, имея в виду, что, во-первых, как он сам говорит об этом в «Пире», жизнь – это всегда lunga navigazione, то есть «долгое плавание» через «море этой жизни», или lungo cammino («долгая дорога»), которую преодолевает душа человеческая, а во-вторых, vita del mio core, cioè del mio dentro, или жизнь моего сердца, то есть моего внутреннего «я», для человека несравненно важнее всего остального.
Поэт говорит о гавани, в которую к старости возвращается душа, подобно старому моряку, рассказывает о том, до какой степени сладостна для него эта гавань, и просто заставляет своего читателя, если он знаком с православным богослужением, вспомнить один из ирмосов, поющихся у нас во время похорон:
Житейское море воздвизаемое зря напастей бурею,
К тихому пристанищу Твоему притек….
Разумеется, и «житейское море» и «тихая гавань» поэту были известны не из нашего канона об усопшем, а из соответствующих латинских антифонов, но это не меняет сути дела: задача Данте состоит в том, чтобы рассказать, что происходит с душой после смерти, и заставить задуматься об этом человека, пока он жив. Totius operis subiectum est homo, «Предмет всего этого труда – человек», – восклицает автор «Божественной комедии».