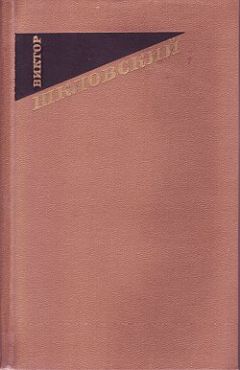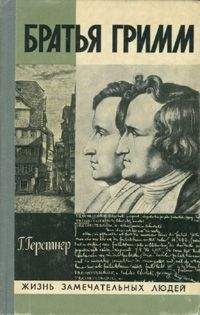Романо Гуардини - Человек и его вера
Словно все его существование служит оправданием соблазна! Ведь в действиях его действительно проявляется «идиотизм»! Он разочаровывает всех, он никому не может помочь в беде, он сам переживает крах. И через несколько месяцев он вновь оказывается там, откуда явился, — во мгле.
Выше уже отмечалось, что по форме этот роман напоминает самум. Это — не линия, не гармонически развертывающаяся ткань, а винтообразный воздушный столб, который все подчиняет себе, кружит, ломает, заглатывает. Но это существование требует именно такой формы, формы элементарного возмущения, которым мир на него реагирует и который можно назвать пароксизмом соблазна.
Каждой своей страницей Евангелие рассказывает нам о том, как глубоко связан соблазн с существованием Христа. Когда к Нему приходят ученики Крестителя и говорят: «Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?» — Он отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне!»
Итак, на вопрос Он отвечает мессианским словом пророка, истинность которого подтверждается деяниями и знаками. Но тут же Он прибавляет: «Блажен, кто не соблазнится о мне!» Иными словами, такой человек велик и должен быть восславлен, ибо опасность соблазна неопровержима и более чем серьезна и избежать ее трудно, ибо она заключена в самом существовании Христа.
В Нем Самом, в Его человеческом бытии можно почерпнуть «доводы» против того, что Он — Сын Божий. Именно то, что становится возможным силою любви Божией, — принятие облика раба — свидетельствует против ее сущностного и личностного воплощения: «Не плотник ли Он?» И действительно, Его бытие постоянно, снова и снова вызывает к жизни соблазн, пока наконец не приводится в движение весь механизм правопорядка, чтобы наказать Его за притязание быть Тем, Кто Он есть. Против Него выдвигается столько «доводов», что Его приемлют лишь «малые и неразумные», не ведающие ничего о доводах, и «мытари и блудницы», избавленные от необходимости выносить приговоры тем вердиктом со стороны мудрых и усердных, лояльных и почтенных, объектом которого служат они сами…
Насколько чуждо это бытие всему мирскому, можно видеть из той сцены, которой заканчивается первая часть романа.
После разрыва с Тоцким Настасья Филипповна несколько лет живет уединенно. Но вот она оказывается перед выбором: выйти ли замуж за Гаврилу Ардалионовича и отдать себя тем самым в распоряжение генерала Епанчина или последовать за Рогожиным, что означало бы для нее броситься в пропасть. Мышкин понимает ее положение. Он просит ее руки и упоминает при этом, что его ждет большое наследство и что он будет богат:
«Настасья Филипповна, — сказал князь тихо и как бы с состраданием, я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я… понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал».
Для общества это — сенсация. Мы ощущаем, как посреди всей этой толпы возникает одиночество двух людей, стоящих друг против друга. Каждый из них нутром чувствует другого. Они отдалены от всех остальных, и на фоне окружающего их плебейства это проступает с беспощадной ясностью:
«Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновною себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня… Я… я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, — заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит».
Все понимают, что Мышкин — неординарный человек; он знает то, что неведомо другим, властен над душами, и его присутствие преображает людей… Нота, которая понимает это глубже всех, — Настасья Филипповна произносит нечто знаменательное, причем именно в тот момент, когда она, постигая всей силой боли и отчаяния его истинную суть, потому-то от него и отказывается, что не считает себя достойной носителя такой сути: «Прощай, князь, в первый раз человека видела!»
Все впечатляющее своеобразие Мышкина сведено здесь к сжатой формуле: он — «человек». Самое экстраординарное высказывание о нем гласит, что он есть человек, — но ведь на это претендуют, это утверждают все, кто так себя именует…
И мы невольно думаем о том, что Тот, Кто был Сыном Бога, называл Себя «Сыном Человеческим». Позиции человека настолько утеряны, а в первоначальном замысле его пути столько Божественного величия, что можно утверждать: человечность в ее чистом виде по плечу одному лишь Богу. Быть человеком в полном смысле слова совсем не так уж естественно, это отнюдь не само собой разумеющийся исходный пункт. Человеческими силами тут не обойтись. «Гуманный человек» — понятие из сферы идеологии. Собственно человек может вести свое начало только от Бога. «Сын Божий» и «Сын человеческий» обозначают в Новом Завете те две формы, в которых находит свое выражение бытие Спасителя.
До сих пор мы занимались лишь одним персонажем из окружения Мышкина — Настасьей Филипповной, — видимо, наиболее глубоким олицетворением «magna peccatrix» [46] Евангелия во всей литературе. Но есть еще и другой: тот, кто любит Настасью так, будто сама природа участвует в этом — бессловесность земли, и огнедышащая бездонность вулкана, и неудержимость урагана. Тот, кто появляется уже в самом начале романа, кто едет в Петербург в одном вагоне с возвращающимся на родину Мышкиным, кто относится к нему с издевкой — и в то же время почти как к равному, кто странным образом ощущает связь с ним, будучи затронут его сутью, — Парфен Семенович Рогожин.
Это — своеобычный, страшный и трогательный человек. Мне кажется, что в мире Достоевского нет родственной ему фигуры. Создается впечатление, что он выкарабкался из земли только наполовину. Невольно приходят на ум неоконченные скульптуры Микеланджело, где человеческие тела тщетно пытаются высвободиться из объятий камня.
Рогожин умен, но ум его спеленат. Он сам говорит, что «ничему никогда не обучался». Он выглядит как «немытый мужик», со своими нечистыми ногтями и грубыми смазным сапогами, с массивным бриллиантовым перстнем на грязном пальце правой руки и немыслимой бриллиантовой булавкой на галстуке. Но в нем заложено и другое, бескомпромиссное начало.
Он происходит из мрачной семьи. Его отец принадлежал к секте скопцов и жил в огромном, темном доме с тяжелой мебелью и нескончаемой цепочкой комнат и коридоров. Он полностью поработил свою тихую жену — мы знакомимся с трогательной маленькой старушкой, уже потерявшей рассудок, но излучающей святость, когда Парфен приводит к ней своего друга. Старик-отец ворочал делами, был безжалостным ростовщиком и скопил кучу денег. Его сыну Парфену предстоит услышать от Настасьи Филипповны, что в нем продолжает жить отец и что ему тоже грозит опасность испытать на себе темную власть денег. И это действительно так; но вместе с тем тот же Парфен способен швырять сотни тысяч в угоду своей страсти. Он приходит в восторг, когда Настасья Филипповна бросает в огонь пачку банкнот; для него это значит поступить «по-нашему», и он называет ее королевой.
Он весь во власти земных сил, но любовь могла бы раскрепостить его, и тогда ему был бы по плечу любой мужественный и благородный поступок. И любовь действительно приходит; при виде Настасьи она поражает его как молния, сотрясает как землетрясение. Вспыхнувшему пожару суждено гореть и не гаснуть. Эта любовь хочет завладеть всем безраздельно. Она так же лишена свободы, так же отдана во власть земных сил, как нетерпима и агрессивна.
В начале романа, когда Мышкин разглядывает портрет Настасьи Филипповны, Гаврила неожиданно спрашивает его, женился ли бы на ней Рогожин. Мышкин отвечает: «Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее». Рогожин любит Настасью любовью, исполненной муки. Страсть эта настолько занята собой, настолько требовательна, что она не в состоянии выносить собственного насилия и обращается против себя самой. Она не может не стать мукой для того, кто выступает как ее объект, ибо не оставляет ему ничего — ни личности, ни нутра, ни свободы, ни покоя. Ни один человек не может жить под игом такой страсти, особенно если его зовут Настасья Филипповна. Он во что бы то ни стало бунтует, и тогда она уничтожает его.
К тому же Рогожин знает, что он всего лишь «мужик». Он ощущает, что отдан во власть земных сил.