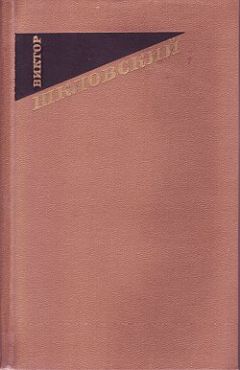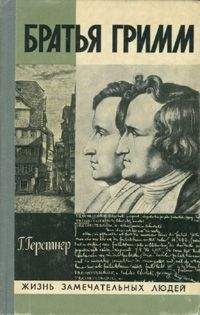Романо Гуардини - Человек и его вера
Создается даже впечатление, что она каким-то образом избавлена от дилеммы выбора добра или зла, равнодушна к ней, проникнута загадочной безответственностью; что она дается незаслуженно, да ее и нельзя заслужить, как нельзя и обосновать ни содержанием, ни ценностью бытия. Становиться прекрасным — более того, непременно быть прекрасным — должно было бы, собственно, только то, что трудолюбиво, добросердечно и истинно. В определенном смысле, очевидно, так оно и есть — но тут в сути прекрасного проступает, тревожа нас, та несомненно существующая другая его сторона, согласно которой это вовсе и не так: красота может просвечивать в том, что зло, сумасбродно, бесчувственно или, наконец, просто глупо.
Как же обстоят дела с человеком, если возможна такая личность, как Мира Главиш в «Мартине Саландере» Келлера? Красота предстает там как автономное качество, как могучая сила, не порождаемая ни умонастроением, ни свершениями, а просто существующая. Потому-то она так прекрасна в своей свободе — и в то же время столь глубоко двусмысленна, когда бытие рушится. Вот что говорит об этом Дмитрий Карамазов:
«Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека… Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит… Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?… Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Так рассуждает необузданный Дмитрий. Одновременно мы вспоминаем странника Макара и старца Зосиму, «нутряную красоту» их душ и мира, увиденного их глазами, их мысленное восприятие красоты как состояния завершенности, то святое ощущение неземного, которое возникает при единении мироздания с Богом, вызванном любящим сердцем, то блаженное преобразование всего сущего, что порождается к жизни любовью.
Недаром в размышлениях старца красота не только венчает собой все и всяческие ценности, но и объем- лет все то свято-истинное и доброе, чего жаждет душа народа. Вот как многообразна красота! Тайна ее получает еще одно преломление в натуре Мышкина, словно бы предшествуя греху — но уже предвидя его. Преломление это уводит в сферу Апокалипсиса, к эсхатологической красоте искупленного мира, и минувшее, «первичное», с его страданием и злом, еще трепещет…
Сразу же после его вступления «в жизнь» он сталкивается с красотой в образе Настасьи Филипповны, и она становится его роком.
Выше уже указывалось, что личность Настасьи Филипповны неоднозначна. Лишь много позже распознаешь ее истинное место: она относится к категории совершенного. «В Вас все совершенство», — говорит ей князь. В его устах такая фраза, особенно если вспомнить, кому она адресована, не комплимент. К тому же фраза эта наверняка относится не к тому в Настасье Филипповне, что воспринимается просто-напросто глазом и слухом, а к тому, что лежит глубже. И в минуту самого горького отчаяния она мысленно возвращается к сказанному им: «Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!»
Но именно в этом и проявляет себя категория совершенного. Женщина эта заведомо, по самой сути своей, подпадает под нее, а именно благодаря своей натуре, которой нельзя отказать в масштабности. Она устроена так, что во всех своих выводах должна идти до конца. Она должна быть цельной и масштабной, чтобы оставаться верной себе и сохранять эту цельность и масштабность во всем, что преподносит ей жизнь. Она должна полностью раскрыться как личность — и до конца пройти предначертанный ей путь. Насколько я могу судить, в этом с ней не может соперничать ни один из прочих персонажей Достоевского. В этом Настасья Филипповна уникальна. С этих позиций она равнозначна Мышкину, тоже единственному в своем роде.
Но тем самым предопределяются и альтернативы дальнейшего: это — или масштабное существование, купленное, правда, ценою глубоких страданий… или, что более вероятно в этом, столь далеком от завершенности мире, уход от него… или третья возможность- гибель. Тоцкий, чьи человеческие качества известны, нанес ей непоправимый урон. Она ненавидит его, но истинным объектом ее ненависти служит вовсе не этот холодный эгоист. Вскоре в ее душе остается одно только презрение к нему, ненависть же — и в этом заявляет о себе категория завершенности — направляется на нее самое. Так и живет она в состоянии отчаяния, проникающего в сокровеннейшие глубины ее существа. Характер же ее красоты служит свидетельством и ее причастности к сфере завершенности, и этого отчаяния.
Потому-то ее существо и затрагивает князя именно там, где восприятие красоты сочетается в нем с самой глубинной, самой могучей его способностью — сопереживать чужую жизнь и ее страдания. Так пробуждается эрос глубочайшего свойства: любовь, состоящая, собственно, из одной только муки, любовь сострадания, всецело устремленная в сферу метафизического или, точнее, религиозного.
Это — не сострадание в общепринятом смысле, а первоначальная форма эроса, восходящая к вечности, — та любовь, которую порождает гибнущая красота, несущая на себе печать отчаяния — и завершенности. Свое первое впечатление от портрета князь выражает словами: «В этом лице… страдания много…»
И эта мысль сразу же порождает озабоченность: «Это гордое лицо, ужасно гордое (и здесь заявляет о себе категория завершенности. — Р.Г.), и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» В них — и сознание грозящей гибели, и проникнутая заботой надежда на возможность спасения, если в этой красоте присутствует доброта.
На красоту же Аглаи Мышкин реагирует иначе — жаждой личного счастья. Глубоко трогает тот трагизм, который заключен в несмелых попытках обрести это счастье, воспринимаемое самим Мышкиным как нереальное, выбраться наружу, пока его не разрушат стихийные силы предназначения и действительности…
Нетрудно ощутить, а по здравом размышлении и осознать, что подобное отношение Мышкина к Настасье Филипповне опять же символично. Сострадание, порождаемое несбывшимся предопределением — достичь совершенства — и служащее не объектом этически целенаправленной воли, а итогом столь властного веления сердца, что им определяется судьба любви, есть символ Спасителя.
Но можно сказать и больше.
Мы вспоминаем, как впервые встречаются в присутствии многих людей князь и Настасья Филипповна и как обмен репликами между Фердыщенкой и Мышкиным словно бы обнаруживает в этой толпе пласты различной глубины залегания. При этом выкристаллизовываются две сферы: впереди — эмпирическая действительность, за ней же — иная, сиюминутная, но отмеченная качественной, сущностной отдаленностью: та, где Мышкин и Настасья Филипповна «будто видели» уже друг друга.
Сфера эта — в вечности. Там и происходила эта «вечная» встреча [43]. Посреди нечаянного свидания, вполне реального и конкретного, вдруг обнажается нечто вечное. Оба затронутых им человека не столько припоминают минувшее, сколько ощущают свою причастность к такому бытию, в котором не существует времени, но вместе с тем заключен смысл всего временного. Во встрече, протекающей во времени, проступает ядро, лежащее в иной сфере.
Настасья Филипповна «будто видела» его уже, но не помнит где. Она не осознает, что видит не что иное, как сходство его с Христом, и что при этом тот человек в ней, который жаждет спасения, узнает в нем Спасителя — тем чувством «вечного» узнавания, где вечное понимается не как мера времени и продолжительности, а как свойство исходящего от Бога бытия, воспринимаемого хоть и в потоке времени, но «вечно»… Вечная эта встреча дарована и князю. Он видит Настасью Филипповну впервые, в данный, конкретный момент, но в этой сиюминутности пробуждается то, «вечное», улавливаемое князем благодаря его «вечному» посланничеству. Здесь перед нами — всего лишь человек, но из облика его проступают такие черты, которые складываются в бытие уже не просто человека, а Спасителя.
Выше уже шла речь о самоотверженности Мышкина, о силе его сострадания. В сцене, происходящей в доме Гаврилы Ардалионовича, разыгрывается жестокая стычка между этим последним и его сестрой Варварой.