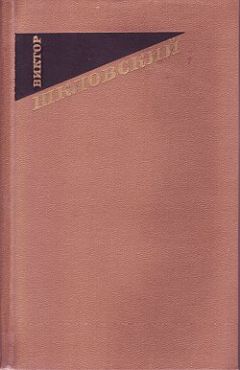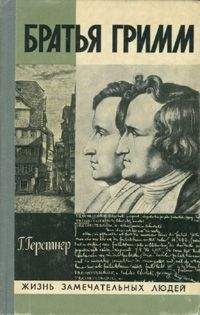Романо Гуардини - Человек и его вера
С этим связано и второе соображение: во время своей болезни Мышкин общался в основном с детьми. Это могло бы означать просто мирную идиллию, в благотворном воздухе которой и окрепла его конституция после тяжелых потрясений. Однако здесь присутствует нечто большее. Мышкин действительно живет жизнью детей. Он перенимает их форму существования. Он находится в сфере их бытия. Он воспринимает ребенка без взрослой снисходительности, напротив — очень серьезно. Ребенок для него — полноценный человек, во многом более мудрый, нежели взрослый: «Ребенку можно все говорить, — все; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть!»
Тот, кто хорошо знает Достоевского, несомненно, помнит, что мудрые и набожные его персонажи всегда были особенно близки и детям; уже только в «Братьях Карамазовых» это — старец Зосима, сопровождающий его отец Анфим и Алеша, образ которого неотделим от окружающей его толпы детей. Для людей этого рода в детях кроется некая религиозная тайна, — тайна человека, еще не утратившего близость к Богу, продолжающего нести в себе нечто от рая. Поэтому в той стране детей, из которой приходит Мышкин, нам открывается более глубокий смысл…
Послушаем, как Мышкин рассказывает о своем отъезде:
«Я сидел в вагоне и думал: «Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь». Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным».
Не правда ли, здесь проступает нечто особенное? Сначала — «теперь к людям иду», а через несколько строк — «с людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело»; не возникает ли здесь впечатление, что кто- то приходит к людям из «внечеловеческой» сферы? Из той, которую воплощают собой дети? Из той, что находится по другую сторону взросло-земного, — из сферы небесной? И что он идет «к людям» с их исторической преемственностью, и видит свою миссию в том, чтобы «быть откровенным», поступать по законам чести, и готов неукоснительно выполнять ее, и знает, что он одинок и что ему будет трудно? Да и его самого будут считать «ребенком», иными словами существом, устроенным согласно логике неба и поэтому не взрослым, не достигшим на земле совершеннолетия!
Правда, эпилепсия может символизировать собой попытку бегства от «взрослости», от исторической преемственности в сферу доличностного, точно так же как способность жить жизнью детей вызывает подозрение в инфантильности. И действительно, интерпретируя собственное «я», Мышкин многозначительно связывает воедино понятия «ребенок» и «идиот» (в этого последнего его превратила на какое-то время болезнь, и он действительно был тогда праздным существом с помраченным сознанием): «Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, — так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются…»
Разве здесь не вырисовывается психология человека, знающего, что он живет чем-то другим, отвечающего внутренне высшим меркам, — короче говоря, дитяти неба? И разве он в то же время не дает «людям» повод с подозрением относиться к тому, что в нем живет, то бишь «сердиться»?
Так этот человек вступает в мир, и мир сразу же начинает преследовать его.
В кабинете генерала он видит фотографию Настасьи Филипповны, и ее лицо поражает его.
«Удивительное лицо… и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!»
В этих словах — судьба…
Несколько часов спустя он снова разглядывает фотографию:
«… он… подошел к окну… и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны.
Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительное простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно».
И когда генеральша, видящая в Настасье Филипповне деклассированную женщину, с некоторым пренебрежением замечает: «Да, хороша… очень даже. Я два раза ее видела, только издали» — и внезапно спрашивает князя: «Так вы такую-то красоту цените?» — ему нелегко ответить.
«— Да… такую… — отвечал князь с некоторым усилием.
То есть именно такую?
Именно такую.
За что?
В этом лице… страдания много… — проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая».
Позже он попадает в дом Гаврилы Ардалионовича. Ситуация развивается там далеко не лучшим образом. Выйдя из гостиной, он по дороге в свою комнату проходит мимо входной двери. Раздается звонок; он открывает дверь, входит Настасья Филипповна, и он, принимаемый ею за слугу, не может сладить со своим смятеением и выполняет ее повеление — доложить о ней. Во время последующией беседы в гостиной Настасья Филипповна спрашивает князя, почему он оставил ее в заблуждении.
«— Я удивился, увидя вас так вдруг… — пробормотал было князь.
А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего?
Ну же, ну! — продолжал гримасничать Фердыщенко [42], - да ну же! О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пентюх же ты, князь, после этого!
Да и я бы насказал на Вашем месте, — засмеялся князь Фердыщенке.
Давеча меня ваш портрет поразил очень, — продолжал он Настасье Филипповне, — потом я с Епанчи- ными про вас говорил… а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин… И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы.
А как же вы меня узнали, что это я?
По портрету и…
И еще?
И еще потому, что такою вас именно и воображал… Я вас тоже будто видел где-то… Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так… Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне…
Ай да князь! — закричал Фердыщенко. — Нет, я свое: Le поп ё vero — беру назад. Впрочем… впрочем, ведь это он все от невинности! — прибавил он с сожалением.
Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух».
Сцена эта соткана из множества смысловых оттенков.
Мышкин потрясен красотой этой женщины. Он знает, что красота — качество метафизическое. В уже приводившемся выше разговоре в доме Епанчиных заходит речь о младшей дочери Аглае. Генеральша спрашивает Мышкина, заметна ли она.
«— О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.
И только? А свойства? — настаивала генеральша.
Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота — загадка».
Красота есть способ восприятия сердцем бытия, его формы и сути. В ней оно обретает могущество любви; затрагивая сердце и кровь, оно затрагивает тем самым дух. Поэтому красота и обладает такой силой. Восседая на троне, она повелевает всем — без особых усилий, но поражая воображение. С появлением же греха она получила способность совращать. Как бы играючи она одерживает верх, ибо вид реально существующей красоты непосредственно затрагивает и воспламеняет сокровеннейшую суть человека…
Создается даже впечатление, что она каким-то образом избавлена от дилеммы выбора добра или зла, равнодушна к ней, проникнута загадочной безответственностью; что она дается незаслуженно, да ее и нельзя заслужить, как нельзя и обосновать ни содержанием, ни ценностью бытия. Становиться прекрасным — более того, непременно быть прекрасным — должно было бы, собственно, только то, что трудолюбиво, добросердечно и истинно. В определенном смысле, очевидно, так оно и есть — но тут в сути прекрасного проступает, тревожа нас, та несомненно существующая другая его сторона, согласно которой это вовсе и не так: красота может просвечивать в том, что зло, сумасбродно, бесчувственно или, наконец, просто глупо.