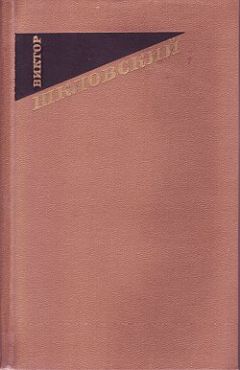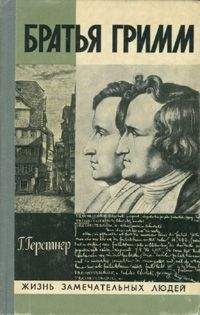Романо Гуардини - Человек и его вера
Скажу просто, какою видится мне сокровенная суть внутренней позиции князя. В этом бытии, вокруг него зримо присутствует Бог, и этим присутствием оно определяется. Это не подлежит сомнению. Но если «веровать в Бога» означает то, что имеем в виду мы, когда говорим, что веруем в Бога, — тогда Мышкин, видимо, не «верует». «Веровать» может, очевидно, лишь тот, кто в каком-то смысле «противостоит» Богу, а не происходит от Него. Здесь же ощущается нечто в этом роде.
При анализе позиции Мышкина создается впечатление, что он не столько противостоит Богу, сколько возникает из Него, не столько говорит о Боге, сколько излучает Его. Проблема веры состоит здесь, видимо, не в том, как прийти к Богу или укрепиться в Нем, а в том, как Мышкин выносит, возвещает, осуществляет свое посланничество, ведущее его от Бога в мир иной сути, мир темный и ожесточившийся.
А теперь спросим себя: какова была бы реакция Христа, Того Христа, Который встает перед нами со страниц Евангелия от Иоанна, на вопрос, верует ли Он в Бога? Вероятно, — и да простит Он нам смелость подобного предположения, ибо мы никоим образом не преступаем при этом границ богобоязненного, — Он удивленно взглянул бы на вопрошающего: о чем он… верует ли в Бога Сын Его?
Мне кажется, Достоевский создает оттиск этого образа, предпринимает попытку в каком-то смысле воссоздать то неповторимое, что заключено в самом факте существования Богочеловека. Разумеется, не «прямым текстом», раз навсегда отложившимся в словах тех, кто «был при этом с самого начала», — скорее символически, со смещением в план чисто-человеческого, с воссиянием Божественного сквозь бытие, Божественному хоть и не равнозначное (сам Мышкин причастен к нему лишь в той мере, в какой христианин вправе сказать о себе, что суть его есть Христос), но призванное в конечном итоге напомнить людям о Христе, поведать о Господе своею личностью и судьбой, своею силой и немощью, верностью своему предназначению — и даже своей несостоятельностью. Этим, конечно, не сказано, что такое возможно в действительности. Речь идет о поэтической возможности, о динамике художественного образа.
Сказанное выше может служить предварительным ответом на вопрос о сути образа Мышкина: он олицетворяет Христа.
Это, однако, вовсе не означает, что Достоевский предполагал возможность Его повторения. Тут нет ни признака «растворения Христа» в каком бы то ни было смысле. Им — Богочеловеком — может быть, как и для христианина Достоевского, воистину лишь Он Сам, Он один, и только единожды и на все времена. Никогда человек, если он не безумец и не богохульник, не может и помыслить о том, чтобы заявить свои права на это бытие.
Я хотел бы особо подчеркнуть это, ибо в противном случае все будет не только разрушено, но и низведено до уровня банальности. Прообразом Мышкина не служит ни Сам Богочеловек, ни тем более некий второй Христос. Здесь речь идет о человеке по имени Лев Николаевич Мышкин. Его бытие слагается из чисто человеческих компонентов: тела и души, радости и горя, нужды и получения наследства, встречи и гибели. Но из его человеческого бытия проступают черты другого, сверхчеловеческого, — бытия Богочеловека.
Выше мы уже говорили об искусстве, с которым Достоевский наделяет человеческий образ теми или иными качествами внечеловеческого существа. Здесь он, как представляется, предпринимает невероятную попытку — причем я не берусь судить о том, в какой мере она была осознанна, — не рассказать прямо и непосредственно о жизни Христа или, скажем, не поведать о том, как некто следует за Ним по зову веры, а поместить черты Богочеловека в человеческую личность. Но переводимо ли Богочеловеческое бытие, каким оно встает пред нами со страниц Евангелий (в частности, от Иоанна), на язык человеческой жизни? Может ли оно быть ограничено ее пределами, не выливаясь в издевку над этим человеком и не развенчивая Сына Божия? Если наше толкование не ошибочно, то можно считать, что Достоевскому было дано решить эту задачу.
Сточки зрения психологии Мышкин, вероятно, нереален. Не исключено, что такого человека вообще не может существовать [47]. Тем не менее образ этот исполнен глубокого смысла в каждом своем проявлении. Его слышишь, видишь, чувствуешь — и вдруг тебе открываются глубинные связи, а в них — каждая деталь, и из бытия человека проступает образ Христа.
Надо всем этим можно было бы, видимо, задуматься и спросить себя, не означают ли те черты, символическую функцию которых мы тщимся доказать, нечто совсем другое?
Так, мы уже отмечали, что эпилепсия может выступать не только в связи с надисторическими моментами, но и как признак бегства личности от самостоятельности и ответственности или что участие в жизни детей свидетельствует не только о свято-невинном существовании, но и об инфантильности… Такая восприимчивость к страданиям другого, какою она предстает в романе, может просто-напросто служить проявлением душевной болезни… Что же до сочувствия, то Мышкина можно упрекнуть в том, что оно никогда не выливается в действенную помощь. Если же возразить на это, что этот человек слишком сильно ощущает безысходность бытия, чтобы вообще предпринимать что-то конкретное, и что ему не остается поэтому ничего иного, как принимать все на себя и страдать за всех, то следующий аргумент — что сочувствие это, в сущности, не более чем пассивность — было бы трудно опровергнуть, ибо подлинная сила вызывает жизнь на единоборство, а настоящий поступок всегда вмещает в себя целое… Можно было бы, впрочем, сказать в ответ на это, что позиция всепонимания, неизменно серьезного восприятия, неосуждения избегает того, с чего как раз и должна начинаться духовно решающая и созидательная деятельность: различения добра и зла в путанице бытия.
Тот факт, что Мышкин не вписывается в ту или иную ситуацию, что его слова и поступки остаются ей чуждыми, можно было бы отнести на счет недостаточной определенности его существа, расплывающегося под руками, на счет неоднозначности его слов и оценок…
Совершенно неясен ответ на вопрос, не проистекает ли поразительная убежденность в том, что ты «уже видел» другого, из особой мобильности фантазии. Известно, что внутренне подвижные натуры склонны утверждать, будто они заранее предвидели появление такой-то идеи или достижение успеха в таком-то начинании… Что же касается, наконец, ссылки на «соблазн», то это, разумеется, чрезвычайно обоюдоострая вещь, и на тот довод, что с помощью этого аргумента можно доказать все, нелегко найти возражение. Пытаться решать проблемы бытия, исходя из схемы соблазна, очень опасно. Она грозит уничтожить любую возможность объективного суждения, ибо с нею в мышление вводится понятие «quia absurdum». Это имеет определенный смысл для некоторых узких, периферийных зон бытия при наличии действительной способности отделять плевелы от злаков; в целом же судить становится в этом случае немыслимо…
Все это — и много другое — можно было бы сказать с полным правом. Действительно, образ Мышкина обескураживает своей неоднозначностью. Ultima ratio толкования состоит здесь в том, какое впечатление возникнет в конечном итоге у читателя и останется ли оно достаточно сильным и продолжительным, чтобы противостоять постоянно заявляющим о себе доводам «от противного». Если же — в свете данного здесь толкования — единение с самим собой достигнуто, то символ, действительно, обретает новое, определяющее качество.
Существо и позиция Мышкина лишены определенности в столь высокой степени, что допускают самые противоречивые оценки. Можно было бы предположить, что сам роман каким-то образом подсказывает аутентичное толкование: посредством все более четко вырисовывающегося характера главного героя, претерпевающего определенное развитие и вершащего свою судьбу; посредством событий, раскрывающих его подлинную суть; посредством его влияния на других; посредством всех тех эмоцинальных или символических моментов, которые используются в художественном произведении, чтобы подсказать читателю смысл того, о чем не говорится «прямым текстом».
Однако в «Идиоте» Достоевский сознательно избегает этого. Образу князя нигде не дается прямое толкование, ни разу не выносится недвусмысленный приговор. Проявления его личности лишены четких очертаний как в некий ключевой момент повествования, так и в целом. Его судьба не определяет другие судьбы. Да он и вообще не служит объектом обобщающего взгляда и объективной оценки. И не только потому, что мы становимся свидетелями всего лишь нескольких месяцев его жизни, но и потому, что эта неподверженность оценкам выступает как существенная черта его бытия. Говоря языком Кьеркегора, мы наблюдаем его исключительно в единовременности. Ни один из других персонажей романа не занимает по отношению к нему определенной позиции, равно как и читатель, дающий себе труд действительно вчитаться в него.