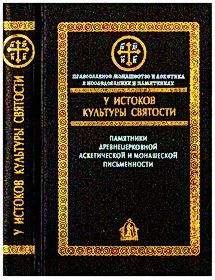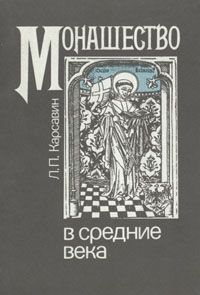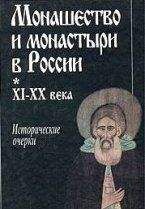Алексей Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества
Большинство народонаселения Римской империи страдало под гнетом привилегированных сословий. К кастовым привилегиям восточных обществ, к родовому аристократизму Греции и Рима присоединилась бюрократия, нашедшая пищу своей суетности в разнообразных титулах, — и все эти лица тяжело давили униженных, обедневших простолюдинов. Христианство своею проповедью о братской любви не могло скоро изменить эти отношения, обратившиеся в плоть и кровь древнего общества. Как глубоко проникло в тогдашнее общество аристократическое чувство, достаточно прочитать письма Иеронима к римским знатным матронам. Этот отшельник вифлеемский в чувстве сознания высоты и величия рода этих матрон, едва не говорит того, что матроны эти делают великую честь и милость христианству, решившись исполнять его заповеди. Мало ослаблены были и языческие начала семейной жизни: жены и дети почти не имели прав; нарушение супружеской верности было обычно; рабство существовало. Вследствие такого настроения общества и все воспитание юношества направлено было единственно к усвоению им внешнего лоска, умения говорить искусно, умения достигать почестей, наслаждаться жизнию с ее чувственными удовольствиями. Развращение детей, говорит Златоустый, происходит от безумной привязанности отцев к житейскому. Обращая внимание только на это и ничего не считая выше житейского, они поневоле нерадят о детях с их душею. Когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговорах слышим только: такой‑то человек из низкого состояния, усовершившийся в красноречии, получил весьма выгодную должность, приобрел большое имение, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал знаменит. Другой говорит: такой‑то, изучив латинский язык, блистает при дворе и всем распоряжается, иной опять указывает на другого, и все только на славных на земле, а о прославившихся на небесах никто не вспомнит. Внушая это детям, учите их основанию всех пороков, вселяя в них самые неистовые страсти — сребролюбие и тщеславие. И худо не это одно, что вы внушаете детям противное заповедям Евангелия, но и то еще, что нечестие прикрываете благозвучными именами, называя постоянное пребывание на конских ристалищах и театрах светскостию, обладание богатством свободою, славолюбие великодушием, дерзость откровенностию, расточительность филантропиею, несправедливость мужеством, скромность же называете необразованностию, кротость трусостию, справедливость слабостию, смирение раболепством, незлобие бессилием. Вы все делаете, чтобы был у сына слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об этом и думать не хотите». Указав на распространение в тогдашнем обществе самого пагубного порока, Златоустый говорит: «Вследствие этого нечестия и вера в Божественный Промысл падает; люди более верят в случай и в судьбу; наносится вред и порядку, и самой вере христианской»[683].
И над этою‑то империею с ее языческим строем жизни возвышалось знамя христианское. Сами императоры христианские не могли отрешиться от древне–римского понятия об исключительном господстве государственного начала, пред которым должны отступать все несогласные с ним убеждения, хотя бы то были религиозные, принятые церковию. Присутствуя при борьбе религиозных мнений, преемники Константина не следовали его мудрому осмотрительному образу действий, но хотели настаивать на мнении, которого держались сами, хотя бы для того нужно было идти вопреки освященному согласием церкви учению и подвергнуть опасности спокойствие империи. Констанций и Валент кровавыми мерами навязывали всем свои арианские верования, более близкие к деизму философов языческих, нежели к православному учению церкви. Между этими двумя императорами является император, пытавшийся всеми мерами восстановить язычество. Ревнующим об осуществлении христианства в жизни, о чистоте его учения могло показаться, что не империя стала христианскою, а христианство низводится до язычества, так мало существующие обычаи и порядки соответствовали требованиям чисто христианским. В основе христианства лежит учение о Распятом Сыне Божием, из этого учения истекает для христианина заповедь о необходимости умереть себе и миру отвержением благ земных и удовольствий чувственных. Выше земных обязанностей и отношений человека христианство ставит обязанности его к Богу. Служба гражданская и военная перестала быть для человека всем; человек почувствовал, что у него есть другие обязанности, кроме долга жить и умереть для своего общества. Христианство отличило семейные добродетели от общественных; оно поставило семью, человеческую личность выше государства, ближнего выше согражданина. Потому отец утратил безусловную власть, какую давало ему древнее право; за женою признана нравственная равноправность с мужем; над угнетением высшими сословиями низших и над рабством произнесен приговор решительный признанием всех сынами Отца Небесного. Нормою деятельности человека поставлена не внешняя правда по римскому закону, но совершенство, которого идеал указан в Отце Небесном. Империя, называющаяся христианскою, в своем устройстве не представляла ничего подобного. Доселе христиане жили почти вне государственного влияния; они умели обойтись без покровительства государственной власти, стараясь в своей общине осуществлять начала христианского учения и по возможности уклоняясь от участия в гражданских делах. Три века такой жизни положили уже решительное разделение между областью веры и областью правительства[684]. Это разделение сделалось общепризнанною и неоспоримою истиною[685]. В империи, во главе которой явилось христианское правительство, такое строгое разграничение не могло продолжаться. Христиане не только были допускаемы, но и поощряемы и предпочитаемы были при занятии высших должностей в государстве. Христиане должны были войти во все интересы общества гражданского, принять участие во всей жизни его. Сама церковь должна была вступить в союз с государством. Новость этого положения, трудность примирения чисто христианских требований с жизнию гражданскою должны были вызвать христиан не к одинаковому образу действий. Тогда как одни из христиан решились принять деятельное участие в государственной жизни, чтобы в борьбе с языческими учреждениями и обычаями утверждать в обществе начала новой веры, другие решились искать осуществления своего идеала христианской жизни вне гражданского общества. Среди пустынь основывают эти христиане общества, которых главный характер — отречение от благ и удовольствий земных, свобода от всяких дел общественных, дабы тем удобнее исполнять обязанности христианина. Сюда сходились свободные и рабы, отцы, покидавшие семейства, дети — своих родителей. Здесь жены в первый раз являют свою нравственную равноправность с мужами, основывая свои обители и равняясь по подвигам мужам; здесь исчезает всякое неравенство состояния и рода. Общества, руководимые опытными старцами, управляются по законам Евангелия. Разорвав всякую связь с исторически сложившимися в гражданском обществе языческими учреждениями и обычаями, христиане могли здесь беспрепятственно и без соблазна исполнять заповеди Евангелия. Златоустый в своих защитительных словах в пользу монашества раскрывает именно ту мысль, что монашество есть удобнейший и безопаснейший по тогдашнему положению род жизни для исполнения добродетели христианской. Он доказывает, что на каждом христианине лежат те же самые обязанности, какие принимает на себя монах, и за неисполнение их одинаково отвечает и монах, и мирянин[686]. Но дело в том, что в городах эти обязанности не исполняются, а в пустыне исполняются. «Мы влечем, — говорит он, — в монастыри для того, чтоб избежали греха и любили добродетель[687]. Хотел бы и я не меньше, и даже гораздо больше вашего, да и часто молил, чтобы миновалась надобность в монастырях, и столько было благочиния в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Но бури и волнения нечестия каждый город делают так неудобным и негодным для любомудрия, что ищущие спасения принуждены бывают убегать в пустыни. Я желал бы, чтоб и обитающие в пустыне, как долго скрывавшиеся беглецы, опять возвращались в свой город. Но что мне делать? Боюсь, чтобы, стараясь возвратить их отчизне, вместо того не отдать их в руки демонов, и желая освободить от пустыни и бегства, не лишить совсем спокойствия и любомудрия[688]. Если бы кто дал надежное ручательство, что дети, воспитываясь в городе, приобретут и добродетель, я не похвалил тех, которые стали бы склонять их к бегству в пустыню, но возненавидел бы, как врагов всего общества, за то, что они, скрывая свещники и унося светильники из города в пустыню, похитили бы у живущих в городе самые важные блага. Но никто не может обещать этого, когда дети скорее научаются порокам, нежели словесности, и теряют важнейшее — силу души и всякое доброе расположение»[689].