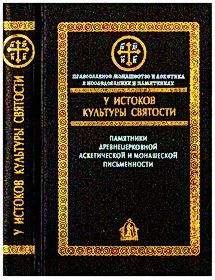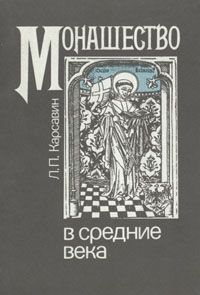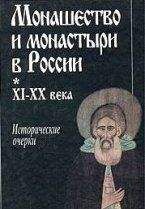Алексей Сидоров - Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества
Пимен давал совет с приходящими лучше говорить из рассуждений старцев, нежели из Писания, ибо в последнем случае есть немалая опасность[661]. Если странник имел нужду в ночлеге, то рогожи, которые свернутые служили седалищем, расстилали в одном углу для гостя, в другом для хозяина[662]. Вечером и в полночь по обычаю прочитывалось 12 псалмов, но участие в ночной молитве не было обязательно для гостя, если гость сам не изъявит желания участвовать в ней[663].
Если случай какой‑либо заставлял женщину искать гостеприимства в келлии, то не отказывали в кратком приюте с надлежащею осторожностию[664]. Но в Скиту было такое обыкновение: если придет женщина поговорить с братом или другим родственником, то они беседовали между собою, сидя один от другого далеко[665].
В Великую Четыредесятницу многие имели обычай затворять двери своей келлии и в это время не принимали посетителей. Но любовь и здесь брала верх. Один брат, боримый помыслами, во вторую неделю Четыредесятницы пошел к Пимену и не надеялся, что ему отворит двери. Но Пимен принял его, сказав: «Мы учились запирать не деревянную дверь, но дверь языка»[666].
Средства для угощения странников иноки добывали себе рукоделием. Жившие по соседству с каким‑либо иноком братия, если знали его скудость, то, идя к нему, брали с собою хлеб и даже вино, чтобы разделить их с хозяином[667]. Но это нелегко было для чувства гостеприимства. Однажды Пиор пришел к Памво со своим хлебом. Памво упрекнул его, зачем он это сделал. «Чтобы не быть тебе в тягость», — отвечал Пиор. Памво молча отпустил его и спустя несколько времени пришел к Пиору со своим хлебом, который был уже размочен. «Зачем ты принес размоченный хлеб?» — спросил Пиор. «Чтобы мне не быть тебе в тягость, я сам размочил хлеб»[668].
Болезнь и смерть иноков
Перенося тяжкие болезни с полною покорностию воле Божией[669], иноки не отвергали и врачебной помощи[670]. В Нитрийской горе были свои врачи[671]. В Скиту была устроена просторная больница, где были постели и подушки[672]. Если узнавали, что кто‑либо из братий заболевал, в келлии ему приносили все нужное[673], старались исполнять и особые его желания. Так, одному больному старцу захотелось пастилы. Макарий Великий сам сходил в Александрию и достал желаемое им[674]. Слепому и престарелому старцу не только приносили пищу, но клали ее в рот[675]. Постель умирающего окружали братия, желая слышать последние слова его[676]. Глубоким духом смирения проникнуты были мысли самых великих подвижников в предсмертные минуты.
Великий Памво, умирая, говорил: «Я отхожу к Богу так, как бы не начинал еще служить Ему»[677]. Агафон в предсмертные минуты говорил: «Сколько мог, я трудился в исполнении заповедей Божиих, но я человек, почему мне знать, угодны ли были дела мои Богу. Пока не предстану Богу, я не имею дерзновения, ибо иное суд человеческий, иное суд Божий». И, попросив более не говорить с ним, с отпечатком радости на лице скончался[678]. Великий Арсений, умирая, говорил: «Не отдавайте никому останков моих, привяжите к ноге моей веревку и тащите в нору». Когда приблизилась кончина его, братия увидели, что он плачет. «Правда ли, — спросили они, — что и ты, отец, страшишься?» — «Правда, — отвечал он, — настоящий страх мой всегда был со мною с того самого времени, когда я сделался монахом»[679].
По смерти старцев устрояли по ним вечери любви[680].
Положение монашества в Римской империи
В то самое время, когда престол римских цезарей стали занимать императоры–христиане, когда не только прекратилось гонение на христианство, но объявлено господствующею религиею, в это время возникает монашество и с изумительною быстротою распространяется по всем областям Римской империи. Люди, ревнующие о жизни по духу Евангелия, разрывают все связи семейные, общественные, гражданские с ново–христианскою империею и удаляются в пустыню, и не одни мужи, но и жены основывают свои общества, исключительно посвящающие себя на служение Богу. Явление в высшей степени замечательное! Напрасно некоторые, как, например, Мелер, хотят объяснить это явление томительным предчувствием приближавшегося падения Римской империи от напиравших на нее со всех сторон варваров, внутренними смутами, порожденными арианством[681]. Во второй половине третьего века Римская империя действительно была близка к разрушению; варвары опустошали ее со всех сторон; десятки разных узурпаторов вели междоусобную войну и готовились раздробить империю на десятки отдельных владений; голод и мор опустошали народонаселение так, что более половины его погибло в это время. Но эти бедствия империи не вызвали появления монашества. Со времени единодержавия Константина Великого империя наслаждалась таким миром и благосостоянием, каких она давно не знавала. Правление преемников его до Феодосия Великого хотя не чуждо было смут, но бедствия, испытанные в это время империею, были, можно сказать, ничтожны в сравнении с бедствиями конца прошлого века. В это мирное для Римской империи время, и притом в области, которая не могла бояться меча германцев — в Египте, и вообще в восточной части империи, появляется и быстро распространяется монашество. Что касается до внутреннего состояния империи того времени, то правда, что в Римской империи многим было нелегко жить, злоупотребления администрации и разнообразные повинности, лежавшие на гражданах, делали для многих тяжелым положение. Но монашество представляло не облегчение внешнего положения, но одни лишения, не улучшение материального быта предлагало оно, но полную нищету, не простор своеволию открывало, но требовало отвержения своей воли. Это заставляет нас искать причины появления монашества в четвертом веке именно в том обстоятельстве, что на престол Римской империи вступили тогда императоры–христиане.
Тогда как христианская религия объявлена была господствующею в Римской империи, весь быт этой империи, все ее учреждения были языческие; в основе их лежали религиозные представления греко–римского мира. Общественная жизнь представляла ту же страсть к наслаждениям различными увеселениями, роскошью в одежде, пище, сладострастием. Из настоящей жизни тогдашнее общество хотело устроить вечный праздник, что составляет главную черту эллинского языческого мировоззрения, представления театральные, игры в цирке, пиршества, заботы об одежде, о наружности и другие увеселения поглощали большую часть времени и внимания людей тогдашнего времени. Право и истекавшие из него законы в сущности оставались также языческими. Константин сделал немало попыток ввести чисто христианские начала в римское законодательство, но эти попытки были нерешительны. Не было смелости ни у него, ни у его преемников переработать все законодательство в духе чисто христианском. Главная причина этого, конечно, заключалась в силе привычки, в личных интересах, в препятствиях, представляемых обстоятельствами и жизнию. Жизнь во всем своем составе не может вдруг переделаться законами. Преемники Константина в силу этой оппозиции жизни должны были иногда, так сказать, идти назад в своем законодательстве, делая уступки языческим нравам времени. И эти несовершенные законы худо исполнялись. И после того, как прошло уже более пятидесяти лет со времени объявления христианской религии господствующею на Востоке, Златоустый пишет: «Все пришло в беспорядок: и города, где судилища и законы, полны стали беззакония и неправды. Дела человеческие не в лучшем теперь положении, нежели в каком бывает город, утесняемый тираном. Точно не человек, а какой‑то злой демон, как свирепый тиран, захватив всю вселенную, поместился со всем своим воинством в душах человеческих; потом оттуда, как бы из крепости какой, ежедневно высылает всем нечестивые и беззаконные приказания, не браки только расторгает, не деньги отнимает и уносит, не убийства только неправедные производит, но, что несравненно хуже этого, душу, сопрягшуюся Богу, отлучает от союза с Ним, предает нечистым страстям своим и заставляет сообщиться с ними»[682]. Большая часть христиан были христианами только по имени и даже думали, что достаточно числиться в обществе христианском, без исполнения заповеди Евангелия, чтобы быть христианами.
Большинство народонаселения Римской империи страдало под гнетом привилегированных сословий. К кастовым привилегиям восточных обществ, к родовому аристократизму Греции и Рима присоединилась бюрократия, нашедшая пищу своей суетности в разнообразных титулах, — и все эти лица тяжело давили униженных, обедневших простолюдинов. Христианство своею проповедью о братской любви не могло скоро изменить эти отношения, обратившиеся в плоть и кровь древнего общества. Как глубоко проникло в тогдашнее общество аристократическое чувство, достаточно прочитать письма Иеронима к римским знатным матронам. Этот отшельник вифлеемский в чувстве сознания высоты и величия рода этих матрон, едва не говорит того, что матроны эти делают великую честь и милость христианству, решившись исполнять его заповеди. Мало ослаблены были и языческие начала семейной жизни: жены и дети почти не имели прав; нарушение супружеской верности было обычно; рабство существовало. Вследствие такого настроения общества и все воспитание юношества направлено было единственно к усвоению им внешнего лоска, умения говорить искусно, умения достигать почестей, наслаждаться жизнию с ее чувственными удовольствиями. Развращение детей, говорит Златоустый, происходит от безумной привязанности отцев к житейскому. Обращая внимание только на это и ничего не считая выше житейского, они поневоле нерадят о детях с их душею. Когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговорах слышим только: такой‑то человек из низкого состояния, усовершившийся в красноречии, получил весьма выгодную должность, приобрел большое имение, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал знаменит. Другой говорит: такой‑то, изучив латинский язык, блистает при дворе и всем распоряжается, иной опять указывает на другого, и все только на славных на земле, а о прославившихся на небесах никто не вспомнит. Внушая это детям, учите их основанию всех пороков, вселяя в них самые неистовые страсти — сребролюбие и тщеславие. И худо не это одно, что вы внушаете детям противное заповедям Евангелия, но и то еще, что нечестие прикрываете благозвучными именами, называя постоянное пребывание на конских ристалищах и театрах светскостию, обладание богатством свободою, славолюбие великодушием, дерзость откровенностию, расточительность филантропиею, несправедливость мужеством, скромность же называете необразованностию, кротость трусостию, справедливость слабостию, смирение раболепством, незлобие бессилием. Вы все делаете, чтобы был у сына слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об этом и думать не хотите». Указав на распространение в тогдашнем обществе самого пагубного порока, Златоустый говорит: «Вследствие этого нечестия и вера в Божественный Промысл падает; люди более верят в случай и в судьбу; наносится вред и порядку, и самой вере христианской»[683].