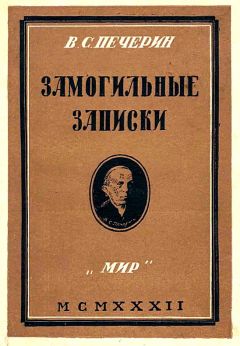Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей
В «Откровениях» Юлиании из Норича мы имеем яркое выражение веры в конечную полноту победы Божественной Любви над грехом и злом, веру в ее всепревозмагающую, не знающую преград и препон, всеобъемлющую, все–восстановляющую силу. Учение о «восстановлении всего» αποκατάστασή τών πάντων— и мира и человека, не было официально признанным учением Церкви; мало того — взгляды Оригена на этот предмет подверглись осуждению на поместном соборе. Однако, в основе своей это учение, данное уже в некоторых выражениях посланий Павла, часто воспринималось и воспринимается как органический и необходимый вывод из благовестил об откровении Вечной Жизни и о Любви Божией. Неученая и смиренная Юлиания стоит здесь в идейном преемстве с рядом великих учителей Восточной и Западной Церкви: Оригеном, Григорием Нисским, Максимом Исповедником, Иоанном Скотом Эриугеной [302].
Но уяснилось это ей не из богословских изучений и изысканий и не из знакомства с творениями какого–либо из сих великих учителей, которых она, по всем вероятиям, и не могла знать, а из внутреннего мистического восприятия Бога, как Любви. Любовь эта открылась ей в безмерном страдании Богочеловека, в личности Христа, который пострадал из любви, чтобы спасти человека. Неужели же эта жертва хотя бы отчасти останется бесплодной? Из той же любви Бог и сотворил мир, и хранит и блюдет его, и все вернет очищенным и возрожденным и проникутым той же единой любовью, в Свое лоно. «Откровение Любви» — вот, поистине, подлинный смысл всего мистического опыта, всех видений и откровений Юлиании. И она это вполне уразумела к концу тех 15–20 лет, что она усиленно обдумывала значение всего показанного ей Господом (прежде еще чем она записала свои откровения). «И пятнадцать лет спустя, или более, я получила ответ во внутреннем уме своем, и он гласил так: «Желала ли бы ты знать, что щмел в виду, что разумел Господь твой в сем откровении? Знай же сие твердо: Он разумел любовь. Кто показал тебе сие? — Тот, кто — сама Любовь. Что показал Он тебе? — Любовь. Ради чего Он сие Сказал тебе? — Ради любви [303]. Итак, держись сего, и ты все больше будешь познавать, и все больше проникать в сие. И никогда ничего другого ты не увидишь здесь, во веки». Таким образом я познала, что Господь наш раяумел любовь, смысл откровения Его — любовь: «Thus was I learned that Love was our Lord’s meaning».
4Перейдем к личности Юлиании. Биографических данных нам известно крайне мало [304]. Она была затворницей в келье, что была пристроена к стене древней, еще норманнской, церкви Св. Юлиании близ Норича (в Норфольке). Церковь существует и поныне; от кельи, в которой с конца 14–го по первую половину 16–го века сменилось несколько поколений затворниц, остались лишь следы фундамента [305]. В этой келье и имела Юлиания свои «откровения» в 1373 году, тридцати лет от роду, когда ее постигла весьма тяжелая болезнь. Лишь лет через 20 — приблизительно в 1393 г. — записала она по памяти свои мистические озарения, углубленные и отчасти восполненные долгими размышлениями в течение последующих 20 лет, и дальнейшим мистическим опытом (не принимавшим уже, однако, столь яркого, столь потрясающего душу выражения, как 20 лет перед тем). Этим и объясняется, должно быть, существование двух редакций ее книжки —одной, более пространной (приблизительно на 1/4 текста), воспринявшей значительную часть и этих позднейших размышлений, — и другой, более краткой, стремящейся ограничиться первоначальными озарениями. В общих им обеим частях (составляющих приблизительно 3/4 пространной версии) оба текста весьма близки друг другу. Мы знаем далее, что Юлиания прожила еще долго: более краткая рукопись в заметке от переписчика говорит, что Юлиания в 1442 году была еще жива; ей было бы 99 лет (если только не следует вместе с издателем краткого текста Dundas Harford’oм читать MCCCCXIII — 1413 г. — вместо MCCCCXLII — 1442; в 1413 году Юлиании было 70 лет). Обозначение Юлиании как Lady Julian указывает на ее, повидимому, благородное происхождение. Что касается ее образования, то она сама называет себя «простым существом, не обученным книжности». Но Inge справедливо замечает, что, если это и верно по отношению ко времени ее откровений, то 20 лет спустя, когда она их записывала, она, судя по некоторым более отвлеченным выражениям, повидимому, приобрела уже некоторое знакомство с богословским языком и богословской мыслью своей эпохи [306].
На личности Юлианин не буду останавливаться: она так ярко выступает из всей книжки ее «Откровений». Отмечу лишь глубокое смирение и трезвенность духа: она не стремится иметь никаких особых откровений от Господа, а лишь живее восчувствовать крестные муки [307]; когда она видит свежую кровь, капающую из под тернового венца на распятии, она дивится, что Бог так снисходит к такому грешному, как она, созданию [308]. И все последующие откровения Божественной Любви лишь увеличивают ее глубокое сознание своего ничтожества и недостаинства. Не по ее заслугам открылось ей это. «Ибо поистине это было показано мне не потому, чтобы Бог любил меня больше, чем малейшую из душ, что пребывает в благодати. И я уверена, что весьма много таких, что никогда не имели никакого откровения или видения, а получили лишь общее для всех научение Святой Церкви, и которые между тем любят Бога более, нежели я» [309].
Следует отметить и мужественно–сознательную, активную нравственную тенденцию, проникающую всю духовную жизнь Юлиании. Она не страшится подвига и страдания: мало того — она жаждет всеми силами пострадать вместе со Иисусом, и молит Бога, как о величайшей милости, об участии в Его муках. Она уверена, что грех будет в конец исцелен, уничтожен, что он в конечном результате является лишь поводом для еще большего проявления, для еще большего торжества и восвеличения безмерной, всепревозмогающей Любви. И однако, она ненавидит грех, как удаляющий душу от Бога, она предпочитала бы греху все самые тяжкие страдания на земле и за гробом [310].
И вместе с тем — мы видели — ее душу заливают волны любви к распятому ее Спасителю и Богу, а чрез Него и ко всем «братьям во Христе» — ко всем людям и ко всему миру [311]. Поистине, «Откровения Божественной Любви» были показаны любящей и жаждущей этой Любви душе. «Я — то, что ты любишь; Я — то, чему ты служишь; Я — то, по чему ты томишься; Я — то, чего ты жаждешь», — так «многократно говорит» ей «Господь наш Иисус» [312]. И она видит Его Царем своей души, восседающим в душе ее на престоле [313].
Из этой любви вытекает та «совершенная радость», о которой Иисус говорил еще Своим ученикам в прощальной беседе перед муками: «Сие сказал я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная» [314]. «Господь желает», пишет Юлиания, «чтобы мы с готовностью внимали Его сладостному учению, более радуясь Его всеобъемлющей любви (His whole love), чем печалясь о наших прегрешениях. Ибо из всего того, что мы можем сделать, сие есть величайшее прославление Его (most worship to Him), чтобы мы, ради Его любви, жили с радостью и веселием среди наших испытаний» [315].
«Внутренняя песнь» души
Мистики часто говорят о «молчании души». То, что ощущается, что переживается в минуту просветления и подъема, неизъяснимо, оно превосходит самую силу восприятия, оно не передаваемо ни в образах, ни в словах, ни в мыслях. «О, как бедно мое слово и как слабо оно сравнительно с образом, который в моей душе! и как самый этот образ, в сравнении с тем, что я видел, таков, что недостаточно назвать его ничтожным»! — так восклицает, напр., Данте, вспоминая то Неизъяснимое, что он созерцал и пережил [316].
Ибо То безмерно, несравнимо, и душе, прикоснувшейся к сему, погрузившейся в эту безмерность, остается только в смятении и трепете изумляться вместе с Екатериной Генуэзской: «О, дивная вещь, о которой не поведаешь ни словами, ни знаками, ни образами, ни вздохами, ни криками, ни каким либо иным путам! Поэтому, скажу лишь, что мне представляется, будто я заключена в темнице и осаждена со всех сторон, и не могу вымолвить даже ни малейшей частички! О, бедный язык, что не находишь слов; о, бедный разум, ты побежден; о, воля, как ты успокоилась, уж ничего другого ты не хочешь, избо ты погружена в полноту удовлетворения; о, память, переполненная, без занятий и без внимания! Все чувства совершенно уже потеряли свою обычную деятельность, и остаются заключенными и подавленными (affocati) в этом пламени божественной любви, с таким преизбытком и внутренней радостью, что кажется, что они уже сделались блаженными и уже достигли желанной цели!» … [317]
Пред лицом этой Невыразимости замирают все человеческие чувства и мысли, смолкает всякое слово. Душа погружается в радостное безмолвие, в напряженное молчаливое созерцание, в сосредоточенное ощущение своего единства, своего объединения с Тем, Преизбыточествующим, Исконным и Конечным. Об этом энаег уже Плотин: не следует душе суетиться и хлопотать, но «пребывать в спокойствии» (ήσυχή μένεiv), покуда не воссияет тот внутренний Свет [318]. О том, что она пережила, она говорит лишь позднее, и «говорит молча» (ύστερον λέγει, καί σίωπώσα δε λέγει) [319]. И древний христианский мистик Диадох, Епископ Фотики (5–го в.), пишет: «Где избыток, там не следует говорить. Тогда душа, опьяненная божественною любовию, стремится в молчании наслаждаться славою Господа» [320]. О молчании души, «об умной» безмолвной молитве много учили древние отцы и подвижники, безмолвники Востока, особенно же так называемые исихасты. «О, бесмолвие и молчание!» — восторженно восклицает одна из таких подвижниц, Блажен. Феодора [321]. Индусский мистик и поэт 15–16 в. Кабир так говорит о высшей цели устремления души: «Познавая Сие, невежда становится мудрым, а мудрец становится молчаливым и безмолвным» … [322]. У Таулера читаем о внутреннем духовном рождении Слова в душе человека: «Посему, ты должен молчать, — тогда Слово сможет в тебе говорить и быть в тебе услышанным; но поистине, ежели ты хочешь говорить, то Он должен молчать. Нельзя лучше служить Слову, как молчанием и вниманием Ему» … [323]. И еще: душа должна «соделать в себе место отдохновения и тишины, и замкнуться в себе, и спрятаться, и сокрыться в духе от всякой чувственности… и соделать в себе молчание и внутренний покой. Если Бог должен говорить, то ты должен молчать; если Бог должен взойти внутрь, то все вещи должны выйти» [324]. «Среди ночи, когда молчали все вещи, в глубокой тишине было сказано мне сокровенное слово», говорит и Мейстер Экхарт. «Оно пришло, крадучись, как вор» … Оно рождается «в самой основе» души, где — «глубокое молчание, ибо туда не проникает ни одна тварь или образ, ни одно действие или познание не достигает там души… Только здесь, в глубоком молчании — покой и обитель для сего рождения, для того, чтобы Бог Отец изрек здесь свое Слово [325]. «Здесь умолкают чувства и все силы, и они бывают насыщены и успокоены», восклицает Рэйсбрук: «Ибо родник божественной благости и изобилия все затопил» … [326]. Раймунд Люллий повествует о долгом томлении Друга, т. е. человеческой души, по Возлюбленном, о долгих и мучительных путях искания; наконец, встретились они друг с другом — Любящий и Возлюбленный… и Любящий в присутствии Возлюбленного своего лишился речи — «et Amicus in conspectu Amati passus est loquelae defectum» [327]. Так для французской созерцательницы 17–го века M–me Chantal молитва есть «безмолвное дыхание любви в непосредственном присутствии Бога», и этот образ в бесчисленных повторениях встречаем все снова и снова в квиэтистической мистике 16–го и 17–го в. в. [328]. Для M–me Guyon душа, напояемая благодатью, подобна грудному младенцу, что безмолвно припал к груди матери [329].