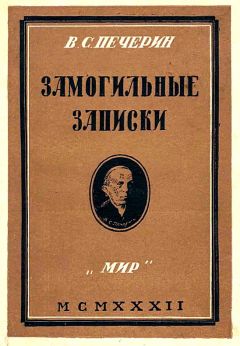Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей
С большой яркостью встает перед умственным взором Юлиании картина мук Христовых и глубоко — до основания потрясает душу:
«Я узрела сей сладостный лик сухим, бескровным и бледным от дыхания смерти (dry and bloodless with pale dying); затем еще более бледным — в агонии; затем бледность перешла уже в синесватость; наконец, синева еще усилилась — по мере того, как плоть все более охватывалась смертью… Это было тяжкой переменой — лицезреть это глубокое умирание (This was a heavy change — to see this deep dying).
И ноздри также изменились и высохли на моих глазах. Это была долгая агония; казалось мне, будто Он семь ночей умирает, все время в страданиях. И это высыхание плоти Христовой было — думалось мне — самой тяжкой мукой изо всех Его мук, и последней. И в этом иссушении плоти пришло мне на память слово, которое Христос сказал: «Жажду». Ибо я видела во Христе двойную жажду — одну телесную, другую духовную…
Что касается телесной жажды, то я поняла, как все тело Его жаждало, лишенное всякой влажности. Ибо пречистая плоть и кости были оставлены одни — без крови и соков. Пречистое Тело долгое время иссыхало… с отяжелением головы и тяжестью во всех членах; ветер дул снаружи, который все более иссушал и мучил Его холодом — более, чем мое сердце может помыслить. И в сравнении со всеми прочими муками Его, которые я видела, все, что я могу сказать или передать, слишком мало, ибо сие не может быть передано словами; но всякая душа, согласно слову Св. Павла, должна ощущать это в себе во Христе Иисусе.
Это лицезрение мук Христа исполнило меня муками… Тогда я поняла хорошо, о каком страдании я молила Бога; ибо мне казалось, чго мои муки превосходят всякую телесную смерть. Я подумала: «есть ли какая мука в аду подобная этой муке?» … Ибо как могло бы какое–либо страдание мое быть более тяжким, чем видеть Его, в котором — вся моя жизнь, все мое блаженство и вся радость моя, страждущим? ..
Здесь я увидала большое единение между Христом, и нами; ибо, когда Он страждет, мы страждем» [267].
Юлиания предпочла состраждать душою со Христом, чем оторвать взор свой от Его распятия для созерцания небесных радостей. Ибо радость для нее — в близости Иисуса, и участие в Его муках дороже, чем всякое блаженство без Него. «Я лучше бы желала остаться в этом страдании до Судного дня, чем достичь неба иначе как чрез Него» … «Таким образом, я избрала своим небом Иисуса, которого в это время я видела только в муках… И это было всегда утешением для меня, что я избрала Иисуса своим небом во всякое время… и в радости и в горе». Она продолжает созерцать Его страшные крестные муки, и ей открывается, что основание их и смысл и двигающая сила их — в любви. Страдания, унижения Сына Божия безмерны, невыразимы, превосходят всякое постижение. «Впрочем, любовь, которая заставила Его претерпеть все это, она настолько же превосходит Его страдания, насколько небо выше земли. Ибо страдания Его были делом, совершенным во времени, действием любви; но Любовь была искони, без начала, и пребывает, и всегда пребудет — бесконечно» [268].
«И внезапно, как я увидела на том же кресте, вид Его изменился на радостный». И она слышит обращенные к ней слова Распятого, доносящиеся со Креста: «Довольна ли ты, что Я пострадал за тебя?» — «Да, благий Господи», ответила я; «благодарю Тебя, благий Господи, да будешь Ты благословен!» «Если ты довольна», сказал Господь наш, «то и Я доволен. В этом радость и блаженство и бесконечное удовлетворение для Меня, что Я выстрадал сии муки ради тебя. Ибо если бы Я только мог пострадать больше, Я бы пострадал больше».
И ей открылся плод, результат Его страдания: искупленные этой дорогой ценой, мы принадлежим Ему. Более того: «Мы являемся Его наградой, честью Его и венцом Его. Это является предметом столь великой радости для Иисуса, что Он ни во что вменяет Свое тяжкое страдание, жестокую и позорную смерть. И в этих словах: «Если бы Я только мог претерпеть больше, Я бы больше претерпел», — я поистине увидела, что, если бы пришлось Ему каждый раз умирать за каждого человека, имеющего быть спасенным, как Он однажды умер за всех, то любовь не дала бы Ему покоя, покуда Он не совершил бы сие. И когда Он совершил бы сие, Он вменил бы сие в ничто ради любви. Ибо все кажется Ему лишь малым в сравнении с Его любовью.
И это Он мне явственно показал, сказав сие слово: «Если бы только возможно было Мне страдать больше» Он не сказал: «Если бы нужно было страдать больше», но: «Если бы только возможно было страдать больше». Ибо если бы и не было нужно, но только возможно было бы пострадать больше, Он бы пострадал больше» [269].
«С радостью и веселием взглянул наш Господь на Свой пронзенный бок и увидел (язву его), и сказал сие слово: «взгляни, как Я возлюбил тебя!» [270]
Ибо Бог открывается нам прежде всего и действеннее всего как Любовь. «Хотя свойства Божественной Троицы и равны все по достоинству, но Любовь была более всего показана мне, ибо она всего ближе к нам… Господу угодно, чтобы изо всех свойств Благословенной Троицы, мы больше всего уверенности имели в Любви. Ибо Любовь склоняет к нам и Божественное Всемогущество и Премудрость». Впрочем, люди большей частью слепы и не знают, «что Он — Все — Любовь (All–Love)» [271]. Любовь же сия во всей беспредельности Своей раскрылась в Иисусе.
2Величайший акт, величайшее «Откровение Божественной Любви» есть Голгофская жертва. Но та же любовь открывается и во всем отношении Бога к миру.
Мир ничтожен и мал; он в видении представляется Юлиании крохотным шариком, величиной с орешек. Он не может удовлетворить жажды нашей души: «Все, что ниже Бога, нам не хватает». Чтобы найти истинный покой и мир и утоление «жажды» — именно в Боге, мы должны освободить, очистить душу от всего тварного: no soul is rested, till it be noughted of all that is made. И вместе с тем Бог любит этот ничтожный и безмерно малый по сравнению с Его величием тварный мир: «Он существует и будет существовать, ибо Бог любит Его». Таодш образом, все имеет свое бытие чрез любовь Божию.
«В этой малой вещи», т. е. вселенной — так продолжает Юлиания, «я видела три стороны: во–первых, что Бог сотворил ее; во–вторых, что Он ее любит; в–третьих, что Он хранит ее» [272]. Ив этом свете любви и действия Божия весь мир преображается для мистика, приобретает новое и великое значение и достоинство.
«Я видела… все, что Он сотворил. Оно велико и прекрасно и обширно и исполнено добра. Но причина, почему оно казалось столь малым моему взору, была та, что я его видела в присутствии Его Творца. Ибо душе, созерцающей Творца всяческих, все сотворенное представилось весьма малым». В том — великое достоинство и высочайшая ценность мира, что он есть плод Божественной любви и целью своею измеет — любовь. Бог «создал все сотворенное ради любви, и чрез любовь оно сохраняется, и пребудет всегда — в бесконечные веки, как сказано выше». Ибо «Бог есть всецелая Полнота Блага, и все благо, какое только имеется в вещах, это — Он» (God is all–thing that is good, and the goodness that all–thing has is He) [273] Посему, «Бог находится во всякой вещи» (Не is in all–thing), Он «все делает, даже самое малое (God doth all–thing, be it never so little). И поэтому, ничего не совершается случайно или наобум, но лишь по безграничному предведению мудрости Божией» [274]. Но это не есть пантеизм: основа всего существующего и в первую очередь нашей сущности есть Бог, истинное, исконное, самобытное существование принадлежит только Богу, и тем не менее наша тварная сущность, как таковая, не есть Бог, хотя и пребывает в Боге [275].
Бог все творит — кроме зла и греха [276]. Но грех и зло лишены подлинного существования; с точки зрения исконной, истинной, метафизической действительности — Божественной жизни, их нет. Поэтому, Юлиания во время озарений своих не увидела греха: «ибо я думаю», говорит она: «что он не Имеет никакого рода существования и не причастен бытию (it has no manner of substance, nor part of being), и не может быть познан как только по страданию, которое он причиняет» [277]. И в заключение своих откровений, уверившись непреложно во всепревозмогающей, победной, неиссякаемой, беспредельной силе Любви Божией, она с торжеством восклицает, обращаясь ко греху: «О, презренный грех! что ты такое? Ты — ничто! Ибо я видела, что Господь — все. Тебя же я не видела. И когда я видела, что Господь сотворил вое, я тебя не видала. И когда мне было открыто, что Господь совершает все, что совершается, малое и великое, я тебя не видала. И когда я узрела Господа нашего Иисуса, как Он восседает в нашей душе с великою славою, и как Он любит, управляет и охраняет все, что сотворено Им, я не видала тебя» [278]. И вместе с тем в нашем условном, эмпирическом мире и зло и страдание и грех бесспорно даны и не только ощущаются весьма реально, но и являются факторами огромной, бесконечной важности для нашей духовной жизни. Юлиания не только их не игнорирует, но усиленно подчеркивает их безмерно–огромное значение: страдание очищает, воспитывает душу, с грехом же нужно, с Божьей помощью, всеми силами неутомимо бороться, предпочитая е|му всяческое другое страдание и на земле и за гробом [279]. Проблему зла и греха, видимое противоречие, имеющееся здесь между истинной сущностью вещей и временно, эмпирически данным состоянием, которое вызвано грехопадением, проблему, над метафизическим разрешением которой так трудились, напр., Григорий Нисский, Августин и Скот Эриугена, Юлиания констатирует [280], но не старается метафизически объяснять и решать: ее интересует только, что нам непосредственно нужно для нашего спасения, что непосредственно его касается, и что практически определяет наш духовный строй — наше отношение к Богу, людям и миру. «Все же остальное, что не относится к нашему спасению (all that is beside our salvation), сокрыто от нас» [281].