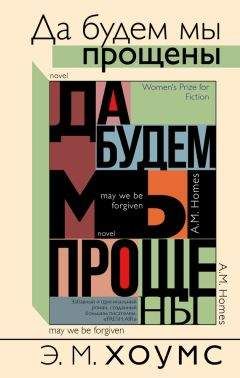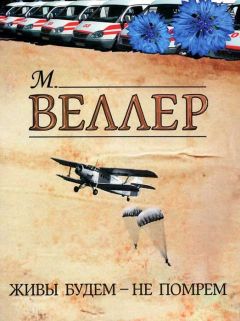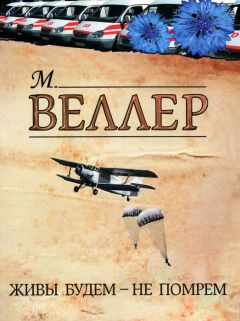Петр Минин - Мистицизм и его природа
Неоплатоническая этика является типичной для мистицизма. В ней мы находим черты, которые роднят между собой мистиков всех времён и стран. Эти черты суть отрицательное отношение к практической деятельности, тяготение к созерцанию, экстаз. Меняются наименования этих ступеней жизни, варьируется теоретическое обоснование этики, но основная линия поведения и его тенденция остаются одними и теми же, без всякого изменения.
По восточному, брахмано-буддийскому представлению, всякое дело есть карма (carman): оно привязывает человека к этой преисполненной страданий жизни и влечёт за собой непрестанный круговорот возрождений, бесконечное странствование души из формы в форму (samsara). Тот, кто хочет окончательно порвать связь с этим призрачным бытием (Maya), должен сторониться всякого дела. Даже доброе дело не освобождает человека от переселений. Правда, оно заслуживает награды, но награда конечного может быть только конечной, между тем как последняя цель человека – в Атмане, по ту сторону награды и наказания, добра и зла, святости и греха [XXXIX]. Итак, кто хочет достигнуть полного освобождения духа от самсары, должен отказаться от всякого carman. Путь к искуплению не в деятельности, погружающей человека в мир призрачных явлений, хотя бы эта деятельность и носила высоко-этический характер, но в отрешении от мира, в удалении от деятельности, в жизни созерцательной.
В сущности, тот же взгляд на дело как на своего рода карму лежит в основе отношения к практической деятельности и у суфиев, и у христианских мистиков. Люди мира, – рассуждает, например, суфий Халладжа, – мыслят о добрых делах, между тем как суфий должен помышлять о том, "чего один атом стоит всех добрых дел: о приобретении истинного знания" (т. е. мистического озарения) [XL]. Рейсбрук, христианский мистик XIV ст., настаивая на обязательности добрых дел для человека в начале его мистического пути, говорит, что приступая к созерцанию, он должен быть "свободен от всякого внешнего дела, как если бы он не действовал; ибо если его бездействие замутнено внутри каким-нибудь делом добродетели, он имеет образы, и пока они длятся в нём, он не может созерцать" [XLI].
Правда, и среди христианских мистиков, и среди внехристианских, встречаются иногда личности, посвящающие себя подвигам деятельного служения ближнему, общественному делу. Вспомним хотя бы любвеобильного и милосердного Франциска Ассизского. К числу подобных же личностей должны быть отнесены и основатели естественных религий. Но и эти мистики на своё практическое служение миру склонны смотреть как на некоторую уступку требованиям жизни, как на некоторое падение с тех высот чисто духовной жизни, на которые поднимает их созерцание. Действуя в миру, они полны отзвуками той небесной мелодии, которой наслаждались в созерцании, сильны той силой, которую почерпнули из своего мистического общения с Божеством. Их мысль непрестанно обращена внутрь; их заветная мечта – при первой возможности снова погрузиться в созерцание. В миру они чувствуют себя, по образному выражению одного подвижника, как рыбы, извлечённые на сушу. И только в своём духовном уединении они у себя дома, в родной для себя стихии.
Итак, истинная жизнь, по мнению мистиков, – жизнь созерцательная. Созерцание обыкновенно представляет собой процесс постепенного абстрагирования и удаления содержания сознания путём концентрации внимания на одной какой-нибудь господствующей идее, или на одном объекте [XLII]. Такова психическая природа индусской йоги, брахманского самади, буддийской дьяны, суфийского мэлэкут, христианского contemplatio. В этом смысле все эти упражнения суть явления одного порядка с неоплатонической θεωρία.
Ввиду исключительной важности, усвояемой мистиками созерцанию, практика восточных мистиков выработала целый ряд приёмов, содействующих скорейшему погружению в созерцание. С целью достижения экстатического состояния индусский аскет в начале обращается ещё к подвигам сурового аскетизма. Назначение аскетических упражнений – умертвить плоть, сделать тело послушным орудием духа. Таким образом, значение аскетизма в мистике – чисто служебное. Но и в этом смысле он должен иметь границы, избегать крайностей. Крайности могут не только умертвить тело, но и утомить дух. Вот почему мистики обыкновенно высказываются против аскетического ригоризма [8]. Большее значение в глазах мистика имеют те средства и приёмы, которые могут действовать непосредственно на дух и способствовать развитию его созерцательной способности. К таким приёмам ещё брахманские аскеты относили неподвижную позу, задерживание дыхания, сосредоточение внимания на каком-нибудь одном, чаще всего блестящем предмете (на солнце, на поверхности воды, на драгоценных камнях, а также на дереве, кончике носа, междубровии, пупке и т. п.), бесконечное повторение таинственного слова "aum" (Ом – оно, т. е. Брахма как бескачественное единство) [XLIII]. Те же приёмы, только в более усовершенствованном виде, встречаем мы и у буддийского подвижника [9]. В том или другом виде применение их мы наблюдаем и у суфиев, и у исихастов, и у других мистиков. Значение этой методы созерцания вполне понятно. Оно имеет целью сконцентрировать внимание на одном объекте или на одной идее. Концентрация внимания на одной идее влечёт за собой опустошение сознания от всего того, что не связано с этой идеей. По мере того как поле сознания всё суживается, идея приобретает всё большее господство. По мере же того, как она укрепляет в сознании своё господство, усиливается в своей интенсивности связанное с ней чувство. Это чувство достигает наивысшего развития в тот момент, когда идея выходит полной победительницей из борьбы с множественностью и разнообразием содержания сознания и безраздельно овладевает сознанием мистика. Так созерцание последовательно прокладывает путь к экстазу. Моноидеизм в области ума влечёт за собой экстатическое состояние в области чувства [XLIV].
Экстаз – мистическая область κατ εξοχήν [10]. И κάθαρσις и θεωρία – только подготовительные ступени к нему. Поэтому именно в психологии экстаза мы должны искать окончательный ответ на поставленный нами вопрос о природе и основной тенденции мистического опыта.
Экстаз – область мистического эзотеризма. Здесь – свои восхищения и ниспадения, свои восторги и отчаяние, здесь дивные видения и откровения, непостижимый умный свет и таинственный мрак, здесь – свой двор и своё святилище, наконец, здесь есть своё святое святых, куда может входить только первосвященник мистики, и тот однажды в год. Все мистики согласно свидетельствуют, что те эмоции и феномены, которые они переживают в состоянии экстаза, совершенно неописуемы. На человеческом языке нет слов, которые могли бы дать хотя бы приблизительное понятие о них. Человеку, – говорят мистики, – не пережившему этого состояния, также трудно судить о нём, как слепому – о цветах и формах, которых он никогда не видал, или глухому о симфонии, которую он никогда не слыхал [11]. Всё это налагает на исследователя обязанность быть особенно осторожным при суждении об этом состоянии и его феноменах. Можно расходиться с мистиками в оценке фактов из внутреннего опыта, но нельзя отрицать эти факты на том только основании, что они кажутся нам мало вероятными.
Констатируя факт неизреченности мистических состояний, мистики, однако, не оставляют нас в полном неведении относительно того, что они переживают в состоянии экстаза. Мы находим у них подробные описания этого состояния, и эти описания дают нам возможность судить как о тех переменах, которые совершаются в них, так и об основной тенденции их мистического опыта.
Выше мы заметили, что этот опыт можно рассматривать с объективной и субъективной точек зрения. Рассматривая экстаз с объективной точки зрения, психологи характеризуют его как "постепенный переход от психической активности сознания к пассивному состоянию бессознательности" [XLV], как процесс постепенной "регрессивной эволюции личности" [XLVI]. Состояние моноидеизма, к которому мистик приближается на предшествующей ступени, не является завершительным. Мистический опыт обнаруживает тенденцию отрешиться и от этого состояния и вступить в область, где, по выражению одного мистика, "нет места ни формам, ни образам, о чём нельзя рассказывать словами без того, чтобы они не заключали в себе тяжкого греха" [XLVII]. В этом состоянии душа мистика становится "безобразной", "безвидной", какой-то метафизической "простотой", бескачественным единством. В этом состоянии мистик чувствует себя находящимся вне пределов пространства и времени, переживающим вечное "теперь", погружающимся в "беспредельную бесконечность". Вместе с постепенным исчезновением из сознания последних представлений и образов постепенно улегается и сопутствующая им эмоция, и в душе мистика водворяется неизреченно глубокий, ни с чем несравнимый покой (источник квиетического душерасположения мистика) [12]. На дальнейшей ступени исчезает и это чувство покоя; оно сменяется состоянием полного безразличия, потерей чувства даже этого безразличия, наконец, уничтожением сознания, если не всегда всецелым (что, по-видимому, имеет место, главным образом, в буддийской нирване), то, по крайней мере, – всегда уничтожением данного, налично-эмпирического сознания. Отрицательным тенденциям интеллектуальной и эмоциональной жизни мистика соответствует модификация, совершающаяся в области волевой. Отречение от своей воли, полная пассивность, всецелое самоотречение – всё это черты, которые, по свидетельству всех мистиков, представляют существенный момент мистической жизни [13]. Институт духовного руководства, или духовного учительства, который мы встречаем не только у христианских подвижников, но и у буддийских мистиков, и у суфиев, имеет своим назначением, между прочим, воспитывать в подвижнике чувства полного послушания, преданности и самоотречения и таким образом подготовлять почву для той пассивности, которая необходима как одно из непременных условий экстаза [14]. Итак, подавление или прекращение деятельности всех душевных сил, отречение от мыслей, чувствований и желаний, отречение от своего "я", от своей индивидуальности – таков конечный пункт, к которому приходит мистик в экстазе. Таким образом, рассматриваемый с точки зрения объективной психологии, экстаз, как видим, будет завершать собой тот процесс самоотречения, начало которому мистик полагает на первой ступени своей жизни, в κάθαρσις-е.