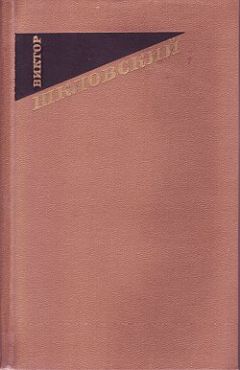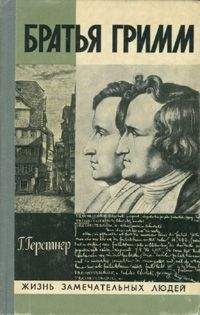Романо Гуардини - Человек и его вера
В жизни Кириллова нет места для Спасителя. Правда, он «зажег лампадку» и в ответ на холодный, без обиняков вопрос Ставрогина «пробормотал», что сделал это, так как «старуха любит» (речь идет о его квартирной хозяйке). Ставрогин чувствует в нем тяготение к Христу, точнее — возможность этого в будущем: «А сами еще не молитесь?» И чуть ниже: «Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уверуете». Но Кириллов отвергает эту возможность. Решение принято.
По какому пути он пойдет?
Прорыв планируется именно там, где проблема приобретает особую остроту: в трактовке и познании конечного и — независимо от него и все же в теснейшей связи с ним — абсолютного.
Что внушает страх? Смерть, потусторонний мир, Бог. Они сливаются воедино на краю существования, там, где его конечность предстает как граничащая с абсолютным.
Эта конечность заведомо воспринимается и приемлется как таковая. Стремление безраздельно отдаться Богу наталкивается на внутренний запрет, вынуждающий не преступать собственных пределов, сохранять автономию. Дело здесь, следовательно, не в том, что самоотдаче этому божественному Ты, признаваемому полноправным претендентом на душу, мешает лишь инертность и эгоцентризм человеческой природы. Напротив, сердце жаждет этой самоотдачи; но дух и совесть, достоинство и призвание человека восстают против нее по той причине, что предполагающее ее смыкание воспринимается как мучительное, внушающее страх, недостойное.
Речь идет, следовательно, не просто об инертности в оценках и боязни жертв, а об осмысленном возражении, порождаемом кризисом структуры бытия и направленном против фальшивой религиозной непосредственности, которая становится невыносимой. Обладающий высокой религиозной чувствительностью человек воспринимает себя здесь уже не как существо, естественным образом связанное с Богом неразрывными узами любви и милосердия, а как нечто «конечное», сознательно отделяющее себя от «абсолютного» — того, что внушает ему страх и с чем он вступает в борьбу. Бог для него уже не рядом, не вокруг, не внутри, не в слиянии; напротив, он ощущает Его противостоящим себе — в облике Абсолютного или, может быть, чего-то абсолютного. Сознание трактует здесь собственное бытие как отколовшуюся «голую конечность», Бога же — как отколовшееся «абсолютное начало» в чистом виде. Его власть он воспринимает как угрозу, направленную против эмансипирующейся конечности. Ввиду того, что самоотдача желанна, но недоступна, властно влекущий к себе предмет ее вожделений преобразуется в нечто враждебное, грозящее гибелью. Отмежевываясь от любви, он превращается в монстра. Личные связи с ним больше не формируются; он становится чем-то безличным, бесплотным («Его нет, но он есть»), призраком, «ничем» с его страшной, внушающей ужас властью. Невольно напрашивается параллель с Мартином Хайдеггером, которому принадлежит термин «ничтожит».
Стремление высвободиться приводит к решению довести ситуацию до логического конца, т. е. признать и продемонстрировать на практике, что бытие действительно конечно и что не существует ничего, кроме конечного. «Смыкание» исчезает тут же. Бог перестает «присутствовать»; пропадают и страх, и мука. То, что некогда именовалось «Богом» — иными словами, воплощение смысла бытия, — человек присваивает себе. «Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. А тот Бог не будет». Возникающий таким образом новый человек станет уже другим существом — «чело- векобогом».
Но где же следует искать критерий того, можно ли считать эту перемену действительно совершившейся? Кириллов «всю жизнь не хотел, чтоб это только слова»; чем же он докажет, что тот акт есть нечто большее, нежели слово? Причем докажет не людям и не самому себе, а бытию как таковому, тем самым становясь метафизически действенным?
«— Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.
Самоубийц миллионы были.
Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.
Не успеет, может быть, — заметил я.
Это все равно, — ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением».
И в знаменательном разговоре с Верховенским:
«— Если нет Бога, то я бог…
Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.
Своеволие? А почему обязаны?
Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте?…
Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому».
Нынешнее бытие таково, что оно предполагает существование Бога. Таким, каков человек теперь, он может быть лишь при условии природно-необходимо- го Его присутствия. «В теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак». Но ощущать это, когда период простой отдачи себя остался позади, а ее место заняло критическое осознание конечности — как раз и значит мучиться. Отсюда делается вывод:
«— Бог необходим, а потому должен быть.
Ну, и прекрасно.
Но я знаю, что Его нет и не может быть.
Это вернее.
Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?..
Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет?».
И ниже: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал — есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам… Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою».
Если человек хочет доказать, что признает простую конечность, то он должен взять на себя и то самое тяжкое, чем она чревата. Он должен совершить то, чего категорически не приемлет Требующий отдачи: стать самостоятельным, своевольным, суверенным. Причем совершить так, чтобы это отвечало суверенитету Бога как властелина над жизнью и смертью: обретая право распоряжаться — не чужой, но собственной жизнью и собственной смертью. Он должен назначить собственной жизни конечный предел, делая это по своей воле и вполне сознавая, что «начальство» потеряло здесь всякую власть и что в раскаянии нет необходимости. Если человек проходит через весь этот ужас (многозначность обозначений показывает, о чем здесь идет речь: о непостижимом переплетении уничтожения и становления, смерти и рождения, ужаса и триумфа, единичного акта и событий почти космического масштаба), то дальнейшее характеризуется такими высказываниями: «… совсем кончено», «дальше нет ничего», «никто не захочет жить»… Но вместе с тем и такими: «Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет», или — и здесь проявляется вся метафизическая энергия мысли — словами относительно «перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства». И еще резче: «Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически».
Смысл всех этих высказываний сводится в конечном итоге к одному и тому же: рождению нового бытия на развалинах старого. Оно представляет собой самодостаточную конечность в чистом виде, но конечность преобразованную, ибо она присвоила себе атрибуты Бога, сама стала «Богом», — не в смысле монистически-нескончаемого всеединения, ибо конечность как таковая есть нечто вполне определенное, а в смысле обретения ею нового, сверхъестественного качества, непостижимого для нашего нынешнего бытия и мышления. В какой-то мере это предвосхищается ответом Кириллова на вопрос: «А сами еще не молитесь?
Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет». Суть конечности становится иной согласно принципу: «Я — Бог постольку, поскольку сознаю, что я Бог». Конечности присуща «страшная свобода». Она дарит блаженство, но испытываемая при этом радость страшна, а «всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость».
Та же тема варьируется в ходе противопоставления понятий вечности и времени:
«— Жизнь есть, а смерти нет совсем.
Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.