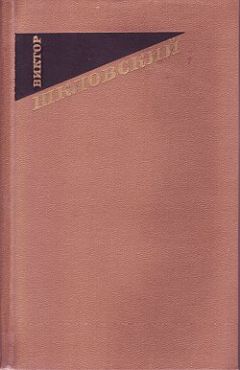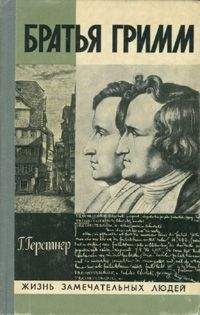Романо Гуардини - Человек и его вера
«— Жизнь есть, а смерти нет совсем.
Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
Вы надеетесь дойти до такой минуты?
Да.
Это вряд ли в наше время возможно, — тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. — В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
Куда ж его спрячут?
Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме».
Здесь четко выступает то, о чем идет речь: особый характер преобразованной, обретшей самостоятельность конечности, не «будущая вечная», а «здешняя вечная» жизнь. Само «время» «будет вечно».
Новый аспект той же темы раскрывается в противопоставлении добра и зла:
«Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?»-спрашивает Ставрогин. «Да, очень счастлив», — отвечает тот. Ставрогин напоминает, что еще совсем недавно Кириллов огорчался и сердился, и слышит в ответ: «Я еще не знал тогда, что был счастлив». Это счастье порождается, следовательно, всей совокупностью экзистенционального опыта и может быть вызвано в каждом конкретном случае любой деталью бытия, например листом с дерева, принесенным ветром. «Это что же, аллегория?» — спрашивает Ставрогин. — «Н-нет… зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо». — «Все?»-переспрашивает Ставрогин с сомнением. И Кириллов подтверждает: «Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту». И снова: «Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо… Вот вся мысль, вся больше нет никакой!»
Тот факт, что «все хорошо», недвусмысленно свидетельствует о возникновении нового сознания. Это новое сознание располагается там же, где и сама новая конечность. Его содержание, его доводы не могут быть ни поняты, ни оправданы с позиций современного бытия; они являются лишь вместе с самим новым бытием и представляют собой не что иное, как его самоосознание. В нем преобразованная конечность постигает себя самое, оказываясь по ту сторону напряженности, так мучившей ее ранее, по ту сторону добра и зла.
И наконец, Кириллов так характеризует в этой связи свое экстатическое состояние (объясняемое собеседником близостью эпилептического припадка):
«Постойте, бывают с Вами, Шатов, минуты вечной гармонии?..
— Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически».
Эти слова с большой силой и наглядностью передают описываемый Кирилловым процесс онтического преображения, преобразования в чувство.
Поступок, который Кириллов хочет совершить по велению внутреннего долга, есть действие религиозное. Оно ведет к спасению, к рождению заново, — то ли только для других, то ли и для него тоже (это остается неясным), но для других — во всяком случае. «Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически».
В дальнейшем к спасительному познанию можно будет приходить не только путем самоубийства: «Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие».
Неясно также, должны ли все покончить с собой, или спасительный поступок одного возведет всех на новую ступень сознания по другую сторону добра и зла; должна ли прекратиться всякая жизнь [29], или начнется новое существование. Любую из этих альтернатив можно было бы подкрепить цитатами. Мысль становится туманной, фантасмагорической — если только сама эта неопределенность не служит формой выражения сущностной аморфности становления, или, вернее, предопределенности, потенциальности, претерпевающей развитие.
Во всяком случае, речь здесь идет о действии религиозного характера. С него в истории начнется новое летосчисление, так же как до сих пор ее делили на то, что произошло «до и после Рождества Христова»: «Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до…
До гориллы?
… До перемены земли и человека физически».
Важно, что здесь выявляется отношение Кириллова к Христу. Когда он заявляет, что все узнают о его поступке, он ссыляется на слова Христа: «Вот он сказал.
И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, перед которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился.
В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампадку зажгли; уж не на «всякий ли случай»?
Тот промолчал.
Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа.
В кого? В Него? Слушай, — остановился Кириллов, неподвижным, исступленным взглядом смотря пред собой. — Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: Этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без Этого человека — одно сумасшествие… А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?»
Здесь ощущается глубокая связь с Христом. «Вот Он сказал» — это лучший аргумент. Что же до «большой идеи», то она состоит в следующем: Он, смысл и суть нынешнего мира, не сумел спасти его, ибо был ограничен рамками этого существования. Природа, нынешний материальный мир, современное бытие оказались сильнее, чем Он. Следовательно, должен прийти другой и иначе взяться за дело: вскрыть ложь и расшатать основы этого самого бытия. В роли «другого» и выступает Кириллов.
Его мысли постоянно соскальзывают в сферу безумного. Более того, они погрязают в болоте недостойного.
Уже одно то, что Кириллов опутан сетями этой организации, свидетельствует не в его пользу: чего стоит хотя бы присутствие Петра Верховенского! Самоубийство Кириллова под руководством этого чудовища не только невыразимо страшно, но и позорно. Однако, с позиций Достоевского, это еще ни о чем не говорит, — ведь самые глубокие вещи являются у него из тех задних дворов, где обитает сомнительное. Но даже в пределах такой диалектики совсем не одно и то же, говорят ли глубокие вещи такие люди, как Федор Карамазов, Лебедев и Мармеладов, или Кириллов, руководствующийся волей такого, как Верховенский. Ведь акт самоубийства должен знаменовать собой окончательный — в религиозном смысле — распад бытия и зарождение нового смысла существования на пепелище старого. В то же время этот акт означает: не нужно никакого аналитического взгляда, чтобы это увидеть — глубочайшую эротическую самоотдачу. Речь идет о Боге и о самом глубинном отвержении себя самого; поэтому всё должен был бы окутать покров стыда. Здесь же во всем этом есть нечто ужасающе бесстыдное [30]. Ведь если нечто до боли сокровенное отдается во власть такой низости, то это воспринимается как страшная проституция. Быть может, сам Кириллов сказал бы в ответ: «Все равно». Но к грязи это не должно относиться!
А потом все действительно тонет в страшном, уродливом гротеске.
Кириллов чувствует, что момент настал. Петр Верховенский его смертью хочет прикрыть собственные грязные махинации и торопит его. Кириллов, для которого теперь уже ничто не может иметь значения, должен оставить письменное признание в том, что он убил Шатова. Сначала он сопротивляется, но «вдруг совсем неожиданно» кричит «в решительном вдохновении»: