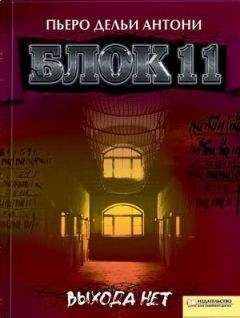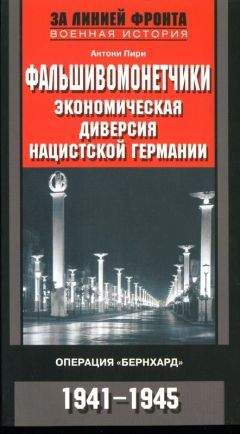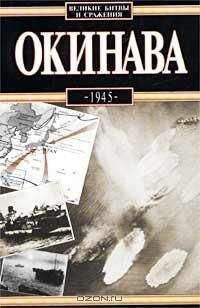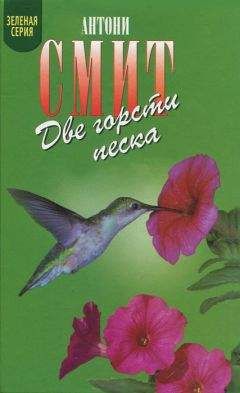Петер Эстерхази - Производственный роман
65 Либеро как раз рассказывал мастеру, что у него в Пече такая девчонка — лучше не найдешь. «Скажу одно: черный лифчик носит. — Мастер молча шел рядом. — Ждет меня на вокзале с «Жигуленком». И за все платит». — «Ага». Затем мастер — прошу прощения — заржал. «А у твоей жены все в порядке?» Но желаемый эффект достигнут не был, потому что парень обалдело посмотрел на мастера, чего, мол, «веселого» в том, что жена его больна. «К сожалению, нет. У Марики не все в порядке. Почки». — «Да, я знаю». Он знал это потому, что мать мастера помогла Либеро раздобыть заграничных лекарств. Мастера, по сути дела, интересовала эта баба в Пече, и, помолчав для приличия, он спросил: «Ну и как?» — «Так», — показал Либеро руку, сжатую в кулак, оставался, значит, на той же волне. «Знаешь, Пепе, люблю я зрелых женщин». Он держал нарастающее неудовольствие в ежовых рукавицах шутки. «Словом, старая она». Мастеру вспомнилось лицо жены Либеро: младенческое личико, двойной подбородочек — «расплываться начинает» — гладкая кожа и усталые глаза. «Девчушка с глазами как у взрослой». «Бедняжка», — сказал он вполголоса. Либеро смеялся над «словом, старая», так что не услышал про «бедняжку»; дело бы усложнилось без всяких перспектив на примирение.
Они шли вдоль длинной заводской стены. На оштукатуренной стене были написаны красным выцветшие буквы, обрывки чего-то. С такого близкого расстояния прочесть их было невозможно. Другой вопрос, что изначальная надпись была мастеру известна.
«Да я всегда любил женщин постарше!» — сказал с вызовом Либеро. Обе руки он вытянул вперед, будто вцепившись во что-то. «Вы не замечали, друг мой, — сказал он на более поздней стадии, — какое бесконечное чудо — ладони? Не думаю, чтобы существовал женский зад, великодушные ягодицы, чьи выпуклости они бы не смогли охватить!»
Раньше он, может, и согласился бы — под некоторым давлением — на пошловатую консервацию (это к вопросу о позитивных сторонах женщин в возрасте), но по мере того, как «становился радикален» в других вопросах, у него появилось желание переубедить народ в этом, да и вообще. Это и так касается их обоих. (Современный венгерский писатель, вероятно, смотрит на сегодняшний день с высот будущего: везде он видит величие, непобедимую силу нового. Так с какой же страстью должен он вступить в бой со всякими пережитками за это запланированное будущее. «И т. д. и т. п.») Так что у входа в кабак он тихо сказал: «Я принимаю сторону жен». — «Да ну, кончай базарить», — сказал Либеро. «Что есть, то есть, приятель», — сказал он скромно.
Они сели за стол, точнее сначала составили два стола, а потом сели. Руки доброго господина Дьердя, огромные лопаты, с тектоническими трещинами, обхватили по кружке и уже звякнули ими на столе: «Нате». Немного погодя появились остальные, Правый Крайний отпросился, «у него была стрелка». Пиво, кружка за кружкой, как во времена больших пирушек. Постепенно разбегались предложения и жесты, Либеро рассказывал, как в пятницу «подцепил с корешем двух телок», но «приятель сделал ноги», напрасно искал Либеро собутыльника, «приятель слинял», а он остался с двумя бабами и без всякого успеха просил одну отослать другую домой, ни та, ни другая на приманку не поддались, обе остались на иве (у него на шее), но потом 2-я «растаяла без следа», «моя половая жизнь была как в водевиле (слова и музыка народные): гоп-ца, дри-ца, гоп-ца-ца — а потом все закручинились» (что за стиль, невообразимо!); в одном из углов раздался печальный напев, господин Арманд гундел себе под нос то же, что обычно. (Мокрое место… от некоторых команд надо оставлять мокрое место!,[111] и у мастера уже лопнуло несколько жилок на глазах, и внимание его было более рассеянно, тогда он повернулся к господину Арманду и с надеждой спросил: «А теперь что?» Господин Арманд взглянул на мастера. Тот вращал кружку. «А что может быть». — — А теперь что? Что может быть. А теперь что? Что может быть. А теперь что? Что может быть. — — Перед тем как отправиться домой — купание! — его остановил господин Дьердь и подмигнул. «Ты только послушай! — Перекрикивая гул, он воскликнул: — Папаша!.. Вы! Вы! Вы только послушайте, папаша! На том, что вы, папаша, выпили за свою жизнь, небольшая водяная мельница могла бы работать?!» Из-за спин поднялся старик. «А, дядя Фаркаш», — «Дьюрика, да что там водяная мельница, большая русская баржа бы развернуться могла». — «Да ладно, папаша», — замахал шинкарь руками на происходящее; мастер поблагодарил младшего брата за выступление, а господин Дьердь дружески похлопал мастера по плечу: «Я его специально для тебя спровоцировал». — «Спасибочки». — «Ты даже можешь этим воспользоваться». (Потому на тот момент мастер заразил уже всех.)
66Мастер вместо подушки положил под затылок руки. «Гиттушка, — засопел он, — я сегодня столько классных женщин видел». — «Это хорошо, старый ловелас», — похвалила женщина мужчину и с этими словами — чмок! пощечина прямо! — поцеловала его в губы. Мастера — всего до мельчайших подробностей! — захлестнул знакомый, горячий прилив крови. Он стремительно повернулся к женщине, и они фронтально столкнулись, нет, кроме шуток, их тела действительно шлепнулись друг о друга, и они были этим глубоко потрясены. На мгновение, как при послеаварийном шоке, их тела неподвижно сплелись, но лишь для того, чтобы потом все стало еще более извилистым.
Ноги женщины внезапно получили свободу, особенно явственно ощущалась линия сильных, упругих бедер, потому что мастеру, после прижатия их, с хрустом, к талии и даже немного к ребрам, перестало хватать воздуха; он хотел было с яростью высвободиться — но к тому времени уже было некуда: вместо этого «кто-то» вцепился мастеру в плечи (конечно, это была мадам Гитти), задыхаясь, пыхтя в шею. И т. д. и т. п., вы себе представляете.
О, эта тесная близость! В эпоху совместного дыхания и обжигающей жары, набегов, отступлений, неистовствований, проникновений, растяжений, уходов, подъемов, удалений и изгибов, округлений и судорогообразных выпрямлений! И усталый, болезненный провал в сон, похожий на обморок. «Шеф, я тебя люблю, — сказал он спящей жене. — Люблю, потому что ты удивительная, умная такая, а задница у тебя пр-росто клас-с-с». (Ай-й! Здесь я не смог в знак протеста спрятаться перед лицом верности под юбку справедливости, где кромешная тьма, и даже между ног солнце не просвечивает!)
Свежая елка темновато подрагивала. «Рождество — крайний срок». Одна шоколадная конфета завертелась вокруг собственной оси. Мастер подложил одну руку под затылок, потому что вторую сжимали жаркие бедра, но не напряжением, а собственным весом. Однажды, в ранний утренний час, он изволил уже стоять в пальто, готовый отправиться в путь, когда невольно услышал, как в соседней квартире сказали: «Боже, вот что ты здесь тихаришь?» Мастер чрезвычайно любил подслушивать. Основным полем деятельности для него была Консерватория. Он изволит подкрадываться на цыпочках, держа бутерброд с лососем в руке. И когда земля уже горит под ногами, потому что каждый член взятой под наблюдение компании уже не только окинул его через плечо изучающим взглядом, но даже началось стесненное перешептывание, в этот момент он очень скромно, но с немалой долей элементаризма — конечно: всем и никому — произносит: ребята, думаю, поль мариа без ума от такой музыки.
Он изволил шагнуть из квартиры, одновременно с соседом, муж устремился вперед, а за ним высоко и элегантно следовала жена; ее лицо оттеняла большая, зеленая шляпа. («Она модный парикмахер». — «Модный, модный», — махала на это рукой Фрау Гитти). Он как-то раз изволил поцеловать ей руку, долгое время удерживал в своей руке женскую, не слишком нахально, но легонько сжимая, а потом выдохнул на душистую руку горячий и комический поцелуй. Однако женщина покраснела, и как только взглянула на него из-под длинных, мохнатых ресниц, ему стало холодно или жарко, и мастер испугался — подумал, что лишком очевидно. А если и женщина пошутила? «Ага, — изволил он размышлять, — и правда. Возможно, и правда, что она приняла это всерьез только вшутку». Впрочем, этот поцелуй благодарности (или сак мне его назвать) не просто так повис в воздухе, на то была причина. Ибо мастер — «поскольку после достопамятной ночки сломалась кровать» — попросил у соседей молоток. Семья мастера не может похвастаться наличием инструментов. Был у них т. н. молоток для забивания гвоздей под картины, которым, как известно, мадам Гитти закрепляет на стене «подлинные репродукции Чонтвари».[112] (После той самой пассерованной ухи мастер и Кº» стояли у воды. Зеркало воды чуть шевелилось, он и капитан Андраш вызвали в нем некоторое волнение. В парной дали раскинулась панорама… В этот момент он вне всякого контекста сказал: «Я знаешь что раздобуду, Андраш, сынок?» Высокий человек выпрямился. «Ну?» — «Огромный портрет Джеймса Джойса. — А потом сделал как господин Марци, когда тот показывает усы: — Вум-м! Во всю стену!» Капитан Андраш кивнул, а затем бросил взгляд специалиста на подпрыгивающую рыбу. «Амур, это амур». — «Черенки у тростника ест, неспа?»[113] — сказал мастер, как ребенок. «Да», — любезно кивал головой капитан. Он изволил любить в нем способность радоваться, когда кто-то немножко прав. «Вместо того чтобы есть тину. Жиреет только… Но мясо чрезвычайно вкусное».)