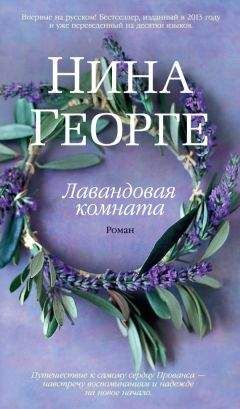Антония Байетт - Детская книга
– Хаоса, – ответил Кейн. – Это безумцы.
Карлу снова пришлось сохранять вежливую маску, освоенную в школе. Он только сейчас начал осознавать, в какой переплет попал с моральной точки зрения. Принадлежность к чему-то, вера в идею могли вынудить человека согласиться с чем-то таким, что со стороны выглядело смешно или чудовищно. Он пытался быть христианином, пытался заставить себя поверить в непорочное зачатие и воскресение. Анархисты привлекали его, будили воображение. Но он не мог – никак не мог – поверить, что демонстративное убийство какого-нибудь дряхлого, выжившего из ума короля действительно приближает царство справедливости и свободы. А потом он попытался взглянуть на дело глазами анархистов. Он пришел к такой формулировке: они одновременно и более здравомыслящи, и более безумны, чем обычные люди. Они лучше представляют себе человеческую натуру, которая, возможно, всего лишь идея. Но они – всерьез, они настоящие, а эта гостиница – нет, это суфле – воздух на тарелке, эти женщины в вечерних туалетах за соседним столиком продаются и покупаются.
Однако суфле было вкусное – с горьким апельсином и гран-марнье. Его вкус оставался на языке, как благословение.
* * *Филип проводил бóльшую часть времени в одиночестве. Фладд или отказывался вылезать из постели, или мрачно сидел в гостинице, поглощая кофе с коньяком. Филипу он велел идти заниматься расширением кругозора. Филип прошел много миль, глядя на огни, переводя увиденное в идеи для горшков, но у него ничего не получалось. Тут всего было слишком много. Его собственное искусство казалось ему в сравнении жалким, провинциальным, далеким, и он почувствовал себя невеждой и деревенщиной.
Он нашел на эспланаде Инвалидов выставку керамики. Особая выставка жьенского фаянса понравилась ему своим главным экспонатом – потрясающими керамическими часами высотой более трех метров, стоящими на резном пьедестале. Филип решил, что для часов это дурацкая форма, но невероятное мастерство их создателей повергло его в священный трепет. Часы были в виде очень высокой вазы с золотой подглазурью, какой Филип никогда не видел, а из вазы – из ее плеч, так сказать, – прорастали спирали и подвески зеленых и бирюзовых листьев, из которых, как странные плоды, выглядывали грозди сферических электрических лампочек. Надо всем этим трудолюбиво преклоняли колени три обнаженных купидона, поддерживая часы в форме голубого небесного глобуса, усаженного звездами; в его недрах скрывался механизм часов, а за ходом времени можно было наблюдать через отверстие на экваторе. Еще один купидон с крылышками присел на глобус, держа в руке факел, в котором также прятался мощный электрический фонарь.
Филип принялся рисовать часы. От Фладда он перенял нелюбовь к пухлогубым купидончикам и всему, что тот называл «финтифлюшками». Филип решил, что, может быть, это чудовищное видение поможет вытащить Фладда из кровати. Из-за стенда вышел молодой человек, примерно одних лет с Филипом, в рабочем комбинезоне, и попросил разрешения посмотреть на рисунок. Юноша что-то сказал по-французски – Филип не понял ни слова, но тон был дружелюбный, с оттенком восхищения. Филип сказал по-английски, что не говорит по-французски. Он положил альбом и карандаш и жестами показал, что он горшечник, двигая пальцами внутри воображаемого цилиндра воображаемой глины на воображаемом гончарном круге. Француз рассмеялся и изобразил, что рисует тонкие цветочки тонкой кистью на близко расположенной поверхности. Филип показал на себя и произнес: «Филип Уоррен».
– Филипп Дюваль, – ответил француз. – Venez voir ce que nous avons fait.[27]
Он показал Филипу вазы из мягкого фарфора с медной глазурью фламбе и вазы в форме веретена или колонны – расписанный бисквит, одна с пионами, одна с увуляриями. Филип делал пометки и срисовал увулярию к себе в альбом. Эти мастера совершенно по-новому пользовались металлическими глазурями, создавая подобия шанжанового шелка, парчи, – Филип жестами выразил свое восхищение, а Филипп ответил по-французски, что это чудовищно трудно, и Филип понял. Ему показали также очень хорошие попытки воспроизвести тайный китайский красный цвет. «Китайский», – сказал Филип. «Oui, chinois», – ответил Филипп. И золотой и серебряный кракелированный фарфор. Какое это все нарядное, подумал Филип.
А потом Филипп вытащил откуда-то совершенно другие вещи, ранние, знаменитые жьенские имитации итальянских майолик эпохи Возрождения, и Филип влюбился. Ему безумно понравились эти цвета: песочно-золотой желтый, индиговый синий, шалфейно-зеленый, сияющий на черном фоне или деликатный на белом. Его влекли к себе разные твари, переплетенные, карабкающиеся, кривляющиеся на поверхностях сосудов: рогатые Паны с высокими острыми ушами и острыми бородками, с косматыми бедрами, плавно переходящими в стилизованные листья – синие, золотые, зеленые. Филипу нравились стилизованные, закрученные спиралью ветви с золотыми яблоками, тонкие нити, усики, трубы. Здесь были гибкие золотые юноши с озорными ухмылками, и синие драконы с рыбьехвостыми детьми – не жирными путти, а смеющимися желто-золотыми мальчиками, – и фавны, и дельфины, все нарисованные стремительно, все яркие, сверкающие. Они напомнили Филипу ворох его рисунков с Глостерского канделябра, с человечками, мартышками, драконами, и у него забрезжили идеи новых, своих собственных узоров, с сочетанием того и другого, ибо на ветвях вечного древа хватит места всем. Он попросил у Филиппа времени, чтобы скопировать один-два рисунка. «Арабески», – сказал Филипп. Он нарисовал для Филипа другие часы, украшенные подобными созданиями, и показал ему очень интересный узор – волну в виде греческого меандра из усов дикой земляники.
Они выпили кофе в маленьком кафе, общаясь рисунками. Рисовали по очереди: Филип воспроизвел узоры своих изразцов из Дандженесса, камнеломку и фенхель, а Филипп нарисовал еще несколько фантастических тварей, ваз с ручками-драконами и гарпий, переплетенных с ветвями. Филип изобразил Фладдовых головастиков, но не мог придумать, как бы объяснить Фладда. Наконец он нарисовал мастера-горшечника за гончарным кругом и подмастерье с метлой. Он жестами объяснил, что подмастерье – это он, а потом, усиленно показывая вдаль, изобразил, что пойдет за Фладдом – он притворился, что храпит, – и приведет его на выставку керамики. У Филиппа были черные волосы и очень четко очерченное лицо с острым подбородком.
– Я вернусь, – сказал Филип.
– Au revoir, donc,[28] – отозвался Филипп.
23
Том сидел в мрачноватом интерьере библиотеки Британского павильона. Был конец дня, и публику сюда уже не пускали. Но для гостей особого хранителя драгоценных металлов Музея Виктории и Альберта делали исключение. Среди книг в кожаных переплетах и блестящих гобеленов, изображающих поиски Грааля, Том легко мог вообразить, что перенесся в семнадцатый век. Прямо перед ним висела картина Берн-Джонса, изображающая сон Ланселота в часовне Грааля. Унылую прогалину в лесу заливал лунный свет. Бледно-золотистые лунные лучи сияли на крупе стреноженной лошади, на лицах спящего рыцаря и наблюдающего за ним ангела. Рыцарь полулежал, элегантно скрестив ноги в кольчужных штанах, словно мраморная фигура на крышке саркофага. На юном благородном лице читался не покой, но предельная усталость. Щит рыцарь прислонил к скрюченному безлистому кусту; луна сияла на длинном мече и шлеме, которые лежали на земле у ног рыцаря. На встревоженном белом личике ангела был написан ужас. У подножия стены часовни рос терновник. Эта картина глубоко тронула Тома. Ему захотелось домой. Он вытащил из сумки для книг последнюю серию приключений Тома-под-землей и написал письмо.
Дорогая мама.
Спасибо, что прислала сцену освобождения сильфа. Мне кажется, это одно из твоих лучших творений, – очень волнующая и пугающая сцена. Я надеюсь, что сильф теперь будет часто появляться в рассказе. Думаю, ты права насчет имени. Сильф гораздо лучше, чем сильфида, и не вызывает никаких ассоциаций с феечками в розовых юбочках.
Я замечательно провожу время и вижу много удивительных вещей – забавных, полезных, а иногда еще и красивых. Я поднялся на Эйфелеву башню, прокатился на большом колесе обозрения, рискнул спуститься в подземную железную дорогу («Метро»), у которой ворота как вход в страну фей. Здесь все движется электричеством – все жужжит и вибрирует – и повсюду целые леса электрических ламп, они сверкают и мерцают. Я не знаю, на что это больше похоже: на «Базар житейской суеты», Камелот или, как мне иногда кажется, на пандемониум. Я не очень умею жить в таком шуме, честное слово, и я часто вспоминаю прогулки по холмам в тишине, ранним утром, когда восходит солнце и на траве лежит роса. Мне правда очень хочется, чтобы ты была здесь. Ты бы гораздо больше могла сделать из всего этого чародейства и искусства, чем я. Это как та твоя сказка – про дворец внутри дворца внутри дворца. Ты почти из чего угодно можешь сотворить сказку.