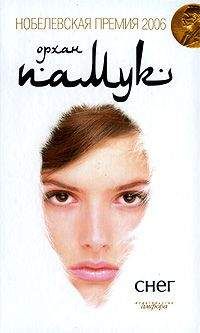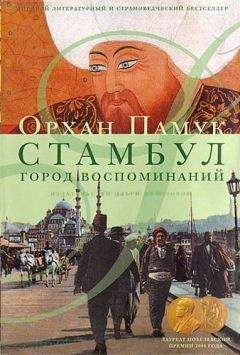Орхан Памук - Снег
– Возничий поднял брезент, – сказал Ка.
– Возничему доверяй. В прошлом году его сын погиб во время столкновения с полицией. И наслаждайся поездкой.
Сначала вниз спустилась Кадифе. Когда она вошла на кухню, Ка, как они и договорились, вышел из комнаты и спустился вниз. Не увидев никого на кухне, он заволновался, но перед дверью во двор его уже ждал возничий. Ка тихонько лег на свободное место между баллонами «Айгаза» рядом с Кадифе.
Путешествие, которое, он сразу понял, никогда не забудется, продолжалось только восемь минут, но Ка показалось, что оно длилось гораздо дольше. Ему было любопытно, в какой части города они находятся, и он слушал скрип телеги, разговоры жителей Карса, когда они проезжали мимо них, дыхание вытянувшейся рядом с ним Кадифе. В какой-то момент его испугала стайка детей, ухватившихся за задний бортик повозки, чтобы проскользить по снегу. Но ему так понравилась милая улыбка Кадифе, что он почувствовал себя таким же счастливым, как те дети.
26
Причина нашей привязанности к Аллаху не в нашей нищете
Ка лежал в телеге, резиновые колеса которой приятно пружинили на снегу, и, как только ему в голову начали приходить новые строки, телега вздрогнула, поднимаясь на тротуар, и, проехав немного, остановилась. После долгой тишины, во время которой Ка нашел новые рифмы, возничий поднял брезент, и он увидел покрытый снегом двор, а вокруг – мастерские автослесарей и сварщиков да сломанный трактор. Черный пес на цепи в углу тоже увидел выбравшихся из телеги и несколько раз гавкнул.
Они вошли в дверь из орехового дерева, за ней была вторая, и, открыв ее, Ка обнаружил Ладживерта, который смотрел из окна на заснеженный двор. Его каштановые волосы с легкой рыжинкой, веснушки на лице и светло-синий цвет глаз, как и в первый раз, поразили Ка. Простота и пустота комнаты, те же предметы (та же щетка для волос, та же полураскрытая сумка и та же пластмассовая пепельница с надписью «Эрсин электрик» и османскими узорами по краям) готовы были создать впечатление, что Ладживерт ночью не поменял пристанища. Но на его лице Ка увидел хладнокровную улыбку, говорившую о том, что он уже смирился с происшедшими со вчерашнего дня событиями, и Ка догадался, что он поздравляет себя, что сбежал от тех, кто устроил переворот.
– Теперь ты не напишешь о девушках-самоубийцах, – сказал Ладживерт.
– Почему?
– Военные не хотят, чтобы о них писали.
– Я не говорю от лица военных, – ответил Ка осторожно.
– Я знаю.
Какое-то время они натянуто и напряженно смотрели друг на друга.
– Вчера ты сказал мне, что можешь опубликовать в западной прессе статью о девушках-самоубийцах, – сказал Ладживерт.
Ка стало стыдно этой маленькой лжи.
– В какой западной газете? – спросил Ладживерт. – В какой из немецких газет у тебя есть знакомые?
– Во «Франкфуртер рундшау», – ответил Ка.
– Кто?
– Один немецкий журналист-демократ.
– Как его зовут?
– Ханс Хансен, – сказал Ка, укутываясь в пальто.
– У меня есть заявление для Ханса Хансена о военном перевороте, – сказал Ладживерт. – У нас немного времени, и я хочу, чтобы ты записал его сейчас.
Ка достал свою тетрадь со стихами и начал писать на последней странице. Ладживерт сказал, что с момента событий в театре до настоящего времени были убиты, по меньшей мере, восемьдесят человек (настоящее количество погибших было семнадцать, включая убитых в театре), рассказал о захвате домов и школ, о том, что сожжены девять лачуг, в которые въехали танки (на самом деле четыре), о студентах, погибших под пытками, об уличном столкновении, о котором Ка не знал, и, не останавливаясь особо на страданиях курдов, в то же время немного преувеличил страдания сторонников религиозных порядков; он сообщил, что мэр и директор педагогического института были убиты властями, потому что это создавало атмосферу, подходящую для военного переворота. С его точки зрения, все это было сделано, «чтобы воспрепятствовать победе исламистов на демократических выборах». Пока Ладживерт, чтобы доказать этот факт, рассказывал о других деталях (например, о запрете деятельности политических партий и союзов и тому подобном), Ка посмотрел в глаза восхищенно слушавшей его Кадифе и сделал на полях (позже он вырвет из тетради эти страницы) рисунки и наброски, свидетельствовавшие о том, что он думал об Ипек: женские волосы и шею, а на заднем плане – игрушечный домик, из трубы которого выходит игрушечный дым… Ка задолго до поездки в Карс говорил мне, что существуют непреложные истины, которые поэт признаёт, но которых боится, ибо они могут навредить его стихам; хороший поэт должен не приближаться к таким истинам вплотную, но лишь кружить вокруг них, и потаенная грустная мелодия этого кружения станет его искусством.
И к тому же слова Ладживерта уже нравились Ка настолько, чтобы записать их в свою тетрадь слово в слово. «Причина того, что мы здесь так сильно привязаны к Аллаху, не в том, что мы такие убогие, как считают европейцы, а в том, что нам больше всего интересно, что нам следует делать на этом свете и что мы будем делать на том».
В заключение, вместо того чтобы обратиться к истокам этого любопытства и объяснить, что нам следует делать в этом мире, Ладживерт воззвал к Западу.
– Выступит ли Запад, который с виду верит больше в свое великое открытие – демократию, нежели в слова Бога, против этого военного переворота в Карсе, направленного против демократии? – воскликнул он с патетическим жестом. – Или же важна не демократия, свобода и права человека, а то, чтобы остальной мир по-обезьяньи подражал Западу? Может ли Запад смириться с демократией, которой добились его враги, совершенно непохожие на него? К тому же я хочу обратиться с воззванием к миру за пределами Запада: братья, вы не одиноки… – На мгновение он замолчал. – Но опубликует ли ваш друг из «Франкфуртер рундшау» это обращение полностью?
– Нехорошо говорить все время «Запад, Запад», будто там есть только один человек и только одна точка зрения, – сказал Ка осторожно.
– И все же я в это верю, – сказал Ладживерт, помолчав. – Запад един, и точка зрения у него одна. А другую точку зрения представляем мы.
– И все же на Западе живут не так, – сказал Ка. – В отличие от того, что принято здесь, там люди не хвалятся тем, что думают, как все. Все, даже самый заурядный бакалейщик, горды тем, что имеют личное мнение. Поэтому, если вместо слова «Запад» написать «демократы Запада», мы сможем глубже задеть совесть тамошних людей.
– Хорошо, сделайте так, как считаете нужным. Есть у вас еще исправления, необходимые для того, чтобы это было издано?
– Благодаря завершающему воззванию получилась не столько новостная статья, сколько интересное заявление, содержащее в себе и новости тоже, – сказал Ка. – И подпишут его вашим именем… И может быть, будет еще несколько слов о вас…
– Я об этом подумал, – сказал Ладживерт. – Пусть они напишут, что автор – один из влиятельных исламистов Турции и Среднего Востока, и достаточно.
– В таком виде Ханс Хансен не сможет это напечатать.
– Почему?
– Потому что публикация в социально-демократической «Франкфуртер рундшау» заявления отдельно взятого турецкого исламиста будет означать, что они поддерживают его, – сказал Ка.
– Если господин Ханс Хансен не возьмет на себя это дело, значит он осторожный человек, – сказал Ладживерт. – Что нужно сделать, чтобы его убедить?
– Даже если немецкие демократы выступят против какого-либо военного переворота в Турции – не театрального, а настоящего, – они в конце концов будут обеспокоены тем, что люди, которых они решили поддержать, – исламисты.
– Да, они все нас боятся, – сказал Ладживерт.
Ка не смог понять, сказал он это с гордостью или с болью, что их неверно понимают.
– Поэтому, – продолжил он, – если это заявление подпишет какой-нибудь старый коммунист, либерал и какой-нибудь курдский националист, то «Франкфуртер рундшау» спокойно издаст его.
– То есть как это?
– Вы сейчас должны подготовить совместное заявление еще с двумя людьми, которых нужно найти в Карсе, – сказал Ка.
– Я не могу пить вино, чтобы быть приятным европейцам, – сказал Ладживерт. – Я не могу из кожи вон лезть, чтобы стать похожим на них, для того чтобы они меня не боялись и поняли, что я делаю. Я не моту упасть ниц перед этим европейским господином Хансом Хансеном, чтобы они нам посочувствовали вместе с атеистами-безбожниками. Кто этот господин Ханс Хансен? Почему ставит столько условий? Он еврей?
Наступило молчание. Ладживерт почувствовал, что Ка думает о том, что Ладживерт сказал что-то неправильное, и бросил на Ка взгляд, в котором читалось отвращение.
– Евреи в этом веке страдали больше всех, – добавил он. – До того как вносить в мое заявление какие-либо изменения, я хочу познакомиться с этим Хансом Хансеном. Как вы познакомились?