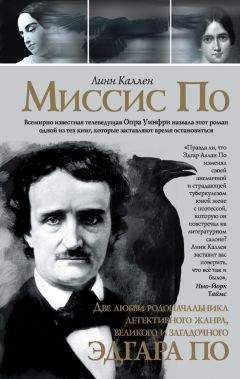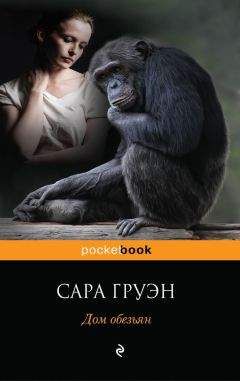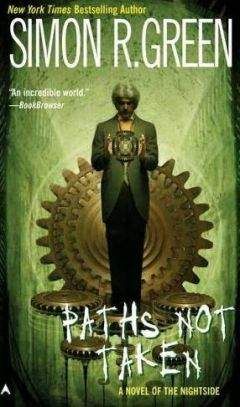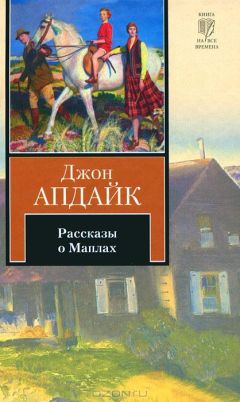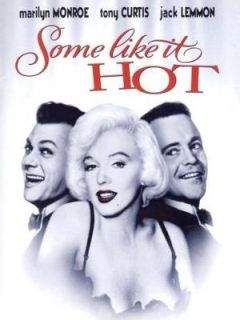Бениамин Таммуз - Реквием по Наоману
– Знай, – сказал ему один из братьев Рахели, – сестра моя не будет готовить тебе гефилте фиш. Забудь об этом, дружок. У нас ты будешь есть рыбу с приправами, от которых живот твой сгорит в огне.
Овед понял то, что ему сказали и почему, и никогда этого не забывал. Отношения его с членами семьи Кордоверо были полны почтения, но, кроме деловых отношений, дружеские связи не возникали. Не такими были отношения Ури со своими дядями и множеством двоюродных братьев семьи Кордоверо, имена которых были Валеро, Маталон, Мани и Сасон. Ури они принимали, как одного из своих, ибо кровь Рахели текла в его жилах, ведь сын обычно похож на мать, а не на отца.
Дед Кордоверо ласково гладил его голову, представляя своим друзьям и говоря:
– Бен-Порат Иосеф, мой внук. Взгляните на его облик и форму. Ведь даже нельзя подумать, что есть в их семье некто Рабинович.
– Абрамсон, – исправлял его Ури, – чего вдруг Рабинович?
– Я так это сказал, к примеру, – смеялся дед Кордоверо, – откуда мне знать разницу в этих именах? Все они ведь на жаргоне.
Через год после того, как Ури начал работать в офисе отца, он создал компанию по производству строительных блоков в сотрудничестве с одним из двоюродных братьев. Отец добыл ему договор с министерством обороны, и еще через два года Ури оставил офис отца и перешел жить в Тель-Авив, в бывший дом своих деда и бабки – Аминадава и Сарры, на бульваре Ротшильда, два этажа которого были сданы квартиросъемщикам. Ури упрямился жить на бульваре, престиж которого явно сошел на нет, и занял один из этажей. Со временем освободил и второй этаж, и хотя в этом не было особой пользы его делу, он чувствовал долг сохранить наследие своих предков. Когда спрашивали его, почему он все же решил тратить деньги на старое здание в районе, который все покидают, переселяясь по возможности севернее, в новые кварталы города, отвечал, что поле боя не покидают и он еще вернет бульвару Ротшильда его былую славу. Семья Кордоверо хвалила его за это, и услышав эти похвалы, он почувствовал, что действовал по внутреннему закону, исходящему от сефардской своей половины: старое предпочтительней нового, и верность традициям дает их приверженцам силу, которой нет в руках тех, кто гонится за новшествами и внешним блеском.
Ашкеназийская же половина в Ури привела к тому, что он отреставрировал старый дом изнутри и снаружи, и дом этот стал подобен домам в северных кварталах Тель-Авива, и возвышался на бульваре Ротшильда как золотой зуб во рту, полном гнилых или вырванных зубов. Вслед за ним потянулись и другие, отреставрировавшие свои дома, и от всего великолепия старого мечтательного Тель-Авива не осталось ничего, кроме названия улицы и нескольких ответляющихся от нее переулков, в которых сохранились по сей день дома, в стенах которых поблескивают камни из мергеля из-под облупившейся штукатурки.
Первый этаж дома Ури отвел под свой офис, как адвокатский, так и компании по производству строительных блоков. На втором этаже Ури проживал, один в четырех комнатах, большие размеры которых остались от старого дома.
Еще до того, как ему исполнилось тридцать, Ури выглядел намного старше своих лет, и люди в солидном возрасте не испытывали никаких трудностей в ведении с ним дел, ибо считали его принадлежащим к их поколению. А люди его возраста находили в нем соучастника развлечений, которыми занимаются богатые холостяки. И Ури старался вести себя с этими и с теми на равных с неким едва ощутимым отдалением, когда сила притяжения превышает некоторую отчужденность. Можно сказать, что у него не было вообще друзей, кроме особых отношений, которые сложились со сводным братом деда – дядей Герцлем.
Из старого своего домика в семейной усадьбе, в южном мошаве, которая стала неким музеем старого поселенчества, Герцль продолжал вести цитрусовое хозяйство, наследованное ему отцом его Эфраимом. Вокруг старого их семейного дома выросли какие-то белые здания, длинные и низкие, и Герцль слышал, что это туберкулезный санаторий, но ни разу там не был. Единственным, с кем общался Герцль по вечерам, был старый офицер, который служил в Европе во время Первой мировой войны, вышел в отставку и поселился в мошаве. Имя выдавало в нем германского аристократа и он был горячим сторонником правой партии, выросшей из ЭЦЕЛя. Принадлежность к партии, как и аристократическое происхождение позволили ему приблизиться к, Герцлю и они по вечерам играли в шахматы, попивали виски и критиковали рабочее правительство. Перед сном выходили на часовую прогулку по дороге, ведущей из мошава на древний холм. Земля на этом холме была непригодна под угодья, потому он высился, пустынный и задумчивый, а по обочинам его росли деревья из видов, которые уже исчезли по всей стране – смоковница, сливовое дерево, живая изгородь кактусов и акаций. Желтые соцветия акаций распространяли острый и тонкий запах, доходивший до ноздрей Герцля воспоминанием детских дней. У старого офицера не было никаких воспоминаний, связанных с цветением акаций, но он понимал, что его товарищ погружен в ностальгию, не произносил ни слова, и Герцль был ему за это глубоко благодарен.
Однажды вышло так, что Герцль должен был приехать в Тель-Авив на собрание совета по торговле цитрусовыми. Он завершил дела в поздний час после полудня и собирался возвращаться домой, но неожиданно вспомнил, что внук сестры и брата, Сарры и Аминадава, живет в Тель-Авиве, в доме, в котором Герцль жил некоторое время семнадцать лет назад, после смерти брата, занимаясь ликвидацией дел покойного. Нашел Герцль имя Ури Бен-Циона в телефонной книге, позвонил и спросил:
– Как твое мнение насчет того, чтобы прийти поужинать со мной в гостинице?
Тут же Ури пригласил его в свой дом на бульваре Ротшильда, говоря, что помощница его готовит прекрасные блюда, на которые не способен никакой гостиничный повар. И так случилось, что шестидесятитрехлетний Герцль и Ури, которому еще не исполнилось и тридцати, обнаружили удивительную находку, которую вообще можно найти в одной семье: нет разницы между одиночеством шестидесятитрехлетнего и одиночеством того, кому предстоит быть одиноким все дни своей жизни, хотя он еще не ощутил этого.
Несмотря на то, что это не была их первая встреча, Ури стало ясно сразу же, как только Герцль Абрамсон вошел в дом, что вот – истинный хозяин перешел порог своего дома, и достаточно одного его слова, чтобы Ури тут же собрал свои пожитки и освободил место. А Герцль, в свою очередь, вздохнул с облегчением, поняв, что не ошибся и что Ури, пожалуй, единственное существо в их семье, к которому можно привыкнуть и полюбить. После смерти Эликума Герцль был убежден, что в семье не осталось мечтателей и людей сердечных.
Рост Герцля, его худоба, щеголеватая одежда и седая шевелюра вернулись в память Ури, и он представил себе, каким прекрасным собеседником может быть Герцль, если Ури будет брать его на встречи с теми, кто ведет с ним дела, и даже к молодым своим друзьям, с которыми он развлекался. Сдержанная речь, молчаливая улыбка, умение слушать, покачивая головой в знак понимания и покуривая трубку, – все вместе это было некой вестью из иного мира, который давно ушел на дно и о нем лишь рассказывают старики.
Столовая Ури вдруг наполнилась запахами заграницы, запахом тех мест, откуда прибывают роскошные автомобили, дорогие инструменты, туристы, которых видишь у прилавков обслуживания в гостиницах Тель-Авива. Вот же, сидит здесь человек, родственник, брат деда Аминадава, и он абсолютно не похож ни на кого из членов семьи. Именно таким бы он хотел видеть себя в старости. Ури старался быть осторожным в словах, когда Герцль спрашивал его о делах, не похвалялся блестящими успехами, а принижал свои достижения, даже отрекался от своих скромных опытов и планов.
Во время ужина он осторожно предложил Герцлю остаться на ночь и повел его в комнату, предназначенную для гостей:
– Если ты мне разрешишь, дядя, отныне это будет твоя комната, в ней ты можешь располагаться в любое время. Пожалуйста, прими мое предложение. Это просьба.
Герцль извлекает трубку изо рта, кланяется как бы в благодарность, но не произносит ни слова, только улыбается. «Почему это он извлек трубку изо рта? – спрашивает себя Ури и отвечает себе:
– вероятно, потому что так следует делать. Это некий милый обворожительный жест, который также необходимо выучить».
В день тридцатилетия Ури устроил в доме торжество, на которое были приглашены несколько красоток: в их обществе он обычно развлекался со своими одногодками. Но мужчин он пригласил в возрасте, всех, с кем у него был бизнес и с ними он предпочитал встречаться отдельно от своих ночных развлечений. Герцль был почетным гостем и даже поднял тост за именинника.
– За здоровье внука моего брата, лейтенанта Ури Бен-Циона, – сказал Герцль, отпил из рюмки и сел на место. Каждый из гостей мог по-своему истолковать этот столь короткий тост. Некоторые нашли в этом явный милитаризм правых, другие – выражение гордости старого поколения достижениями государства и изменением порядка предпочтений в обществе. Только Ури почувствовал, что в этом тосте скрыто некоторое порицание, и когда все гости разошлись, а Герцль остался ночевать, Ури спросил: