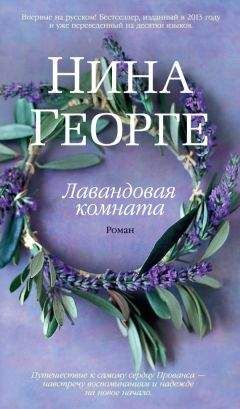Антония Байетт - Детская книга
– Горшки неподвижны, – заметил Филип.
– На твоих горшках все в вечном движении.
– Я заставляю все стоять неподвижно. Все вещи, которые от природы не могут не двигаться. Морскую воду. Подземных тварей. Чтобы понять, как это работает, нужно взять горшок в руки.
Он протянул руки и взял с подставки круглый золотой кувшин, покрытый серебряными и угольно-черными бесенятами.
– Вот. Держи.
– Я боюсь уронить.
– Ерунда. У тебя хорошие руки. Забыла?
Дороти стояла и держала горшок, вмещая в ладонях прохладную легковесную глиняную оболочку. Взяв сосуд в руки, Дороти немедленно ощутила его трехмерность. Она поняла: когда измеряешь сосуд кожей, а не глазами, он воспринимается совершенно по-другому. Вес горшка – и пустота, воздух внутри него были его частью. Дороти закрыла глаза, чтобы понять, как это меняет форму горшка. Кто-то сказал:
– Сэр, мадам, извините, поставьте на место, трогать экспонаты не разрешается.
Какой-то человечек дергал Филипа за рукав.
– Я имею право трогать, если захочу, – сказал Филип. – Они мои. Я сам их сделал.
– Прошу вас, сэр. Поставьте назад. Мадам, прошу вас.
Светлые волосы человечка прилипли к потной красной голове. Он умолял:
– Понимаете, все хотят их трогать, эти сосуды сами просятся в руки, и стоит вам начать…
Филип засмеялся:
– Дороти, поставь назад. Он прав. – И уже служителю: – Эта дама учится на хирурга. У нее твердая рука.
– Да, сэр. Но тем не менее…
Дороти вернула горшок на подставку.
* * *– Мы можем пойти где-нибудь поужинать, – сказал Чарльз – Карл, обращаясь к Элси.
– А как я потом вернусь?
– Куда?
– Мы с Филипом остановились в гостинице в Кенсингтоне.
– Я отвезу тебя обратно.
– Я не могу. Ты должен понимать. Я должна ужинать с Филипом и… со всеми остальными.
– Я могу напроситься на приглашение, – сказал Чарльз – Карл. – И тогда мы сможем…
– Все это без толку, и ты это прекрасно знаешь.
Но он напросился на приглашение и умудрился сесть рядом с ней, обоих бросало в жар, оба чувствовали себя слишком живыми и отчаивались.
* * *Джулиан был влюблен в Гризельду. Он понял это совсем недавно. Ему нравилось молчать об этом, держать это в тайне даже от любимой – чтобы не было похоже на кипящие сплетни и бесконечные пересуды мужского кружка в Кингз-колледже. Еще Джулиан молчал оттого, что, судя по всем признакам, эта любовь не была взаимной. Гризельде было приятно его общество, потому что он много знал и понимал ее слова, которые поставили бы в тупик большинство людей. Но ей было с ним слишком уютно. Не было остроты осознания происходящего. Он говорил с ней о работах Филипа:
– Это бурные сосуды. Кипящие. Буря в чашечке воды, в вазе. И по всем сосудам носятся твари… как черви в сыре. Величественные сосуды, на которых бушуют шторма.
– Ты очень точно формулируешь. Ты такой умный!
– Я предпочел бы сам творить что-нибудь, а не рождать точные формулировки для чужих творений. Я помню, как поймал Филипа – грязного оборвыша, который прятался в саркофаге в подвале. А я только хотел выгнать его оттуда, куда посторонним вход воспрещен.
Гризельда засмеялась:
– А теперь Музей купил вон ту большую вазу с потопом и тот высокий кувшин с карабкающимися тварями.
– Это хороший сюжет.
– Да, из грязи в князи.
– Ну… во всяком случае – в художники…
* * *Дороти приехала в «Жабью просеку» на выходные. Она встала рано и наткнулась на Тома, который ел хлеб с маслом.
– Пойдем прогуляемся, – сказала она. – Погода хорошая.
– Если хочешь. – Том кивнул.
– Можно пойти к древесному дому.
– Если хочешь.
* * *Они шли под пологом леса, под листьями, желтыми и желтеющими, уже слишком безжизненными для зеленых, но еще недостаточно хрусткими и яркими для желтых и красных. То и дело сверху падал очередной листок, присаживался ненадолго на ветку, планировал дальше, бесцельно кружась, и наконец ложился в слой лиственного перегноя. Дороти пыталась говорить с Томом. Не о своей работе, потому что уже давно поняла, что ее работой он подчеркнуто не интересуется. Она говорила о керамике, о школьных экзаменах Гедды, о том, что у Виолетты в последнее время болят лодыжки и что Дороти об этом не знала, а это может быть гораздо серьезней, чем все думают. Том почти все время молчал. Он показывал ей фазанов и один раз показал кролика. В лесу пахло тлением – победительным, заложенным в самую суть вещей. Тропа свернула и вышла к месту, где когда-то прятался их тайный древесный дом.
– Его нет, – сказала Дороти. Аккуратная поленница из кусков дома стояла на прежнем месте.
– Да, – сказал Том.
На миг Дороти решила, что брат сделал это сам в припадке безумия или отчаяния.
Он сказал:
– Это лесник. Он не имел права, это общинная земля, а не часть его вырубок.
– Ты мне не сказал.
– Я думал, тебе будет неинтересно, – кротко и ядовито ответил Том. – Не по правде интересно. Не очень.
– Это же древесный дом. Все наше детство.
– Да, – сказал Том.
– Прости меня, – сказала Дороти, словно это она изрубила на куски стены дома.
– Ты не виновата, – ответил Том. – Случилось то, что случилось. Куда теперь пойдем?
* * *Когда Дороти уже собиралась ехать в двуколке обратно на станцию, Олив позвала дочь к себе в кабинет:
– Хорошо бы ты приезжала почаще. Я беспокоюсь за Тома.
Кабинет изменился. Он был забит разнообразными куклами, фигурами из папье-маше, макетами декораций, с книжных полок торчали марионетки с веревочками. Работа Ансельма Штерна, подумала Дороти, слегка обиженная, что ее настоящие родители сотрудничают у нее за спиной. Она спросила:
– Что, по-твоему, с ним не так?
– Не знаю. Он все встречает в штыки. Я не могу до него достучаться.
– Может быть, ты и не пытаешься, – сказала Дороти и тут же об этом пожалела.
Олив на миг уронила голову в руки. И сказала с вялым раздражением:
– Ты-то уж точно не пытаешься. Тебя и дома-то не бывает. Я знаю, ты намерена спасать людей и творить чудеса, но у тебя нет времени, чтобы хоть замечать своих родных или относиться к ним по-доброму.
Дороти взяла марионетку – маленькую, серую, похожую на крысу, в золотом ошейнике, с пришитыми рубиновыми бусинками глаз. И услышала свой голос:
– А как ты думаешь, у кого я этому научилась? Погляди на себя. Том явно болен, а ты набила всю комнату этими куклами…
– Я пишу пьесу. Со Штейнингом. Мы сняли театр «Элизий» на следующий год. Это будет совершенно новая постановка, ничего подобного еще ни у кого не было.
– Я от души желаю успеха твоей постановке. Честное слово. Но по-моему, Том болен. И его мать – ты, а не я.
– Да, но он тебя любит, он тебе доверяет, вы всегда были так близки.
Дороти стиснула зубы и начала перебирать в уме список всех маленьких косточек человеческого скелета – одну за другой. Работа. Работа – самое важное. А работа Олив была безнадежно заражена игрой.
– Кто-то должен заставить Тома повзрослеть, – сказала Дороти.
– Он уже взрослый, – возразила Олив, а потом уже другим, несчастным голосом добавила: – Я знаю, я знаю…
– Мне пора. А то я опоздаю на поезд.
– Возвращайся поскорее.
– Если получится, – сказала Дороти.
43
Олив снилось, что театр имеет форму черепа. Он нависал над ней на туманной, копотной улице, непорочно-белый и улыбающийся. В такой форме не было ничего удивительного. Олив каким-то образом вплыла внутрь через щель меж зубов и оказалась под куполом, где порхали яркие создания – птицы и воздушные акробаты, ангелы и демоны, феи и жужжащие насекомые. Она должна была с ними что-то сделать. Рассортировать, переловить, дирижировать ими. Они сгрудились в воздухе вокруг ее головы, как игральные карты в «Алисе», как рой ос или пчел. Она не могла ни дышать, ни видеть и проснулась. Она записала этот сон. Она записала: «Я поняла, что всегда представляла себе театр как пространство под черепом. Книгу может держать живой человек в поезде, за столом, в саду. Театр нечто нереальное, там все внутри». Требовательность Штейнинга внушала благоговение, а иногда приводила в отчаяние. Он построил скелет постановки и прилаживал к нему детали. Каждая сцена должна была завершаться занавесом, сюжету требовались развитие, кульминация и развязка.
– Ваша сказка словно нескончаемый червь, – сказал он Олив. – Нам нужно порубить ее на сегменты и перестроить. Посмотреть, какие сценические механизмы у нас есть, и приспособить их к делу. И еще нам нужна музыка.
Штерн сказал, что им нужно что-нибудь вроде Рихарда Штрауса. Нет-нет, воскликнул Штейнинг, что-нибудь английское, напоминающее о феях – нечто среднее между «Зелеными рукавами» и «Кольцом нибелунга». Он знает одного молодого музыканта, который собирает английские народные песни. Тот поймет, что нужно.