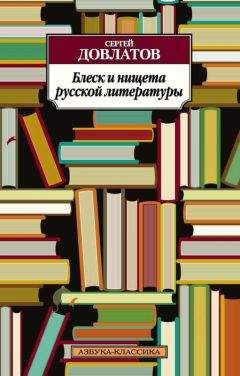Леонид Сергеев - До встречи на небесах
— …Ну ты, Алка, отличница! Сделала из Марка полноценного мужика… До тебя он ничего не мог.
Был случай, когда Мазнин с Кушаком не пришли на похороны его матери, хотя накануне обещали и Тарловский на них рассчитывал (они, видите ли, зашли выпить в ЦДЛ и «набрались»). Ясно, поступили по-свински, гнусно.
А Яхнин однажды и вовсе отмочил номер:
— Представляешь, — рассказывал мне Тарловский, — мать умерла, сижу без денег, а Яхнин звонит и, изменив голос, говорит: «Тарловский, вы получили денежную премию?» — и гогочет — «Ты что, меня не узнал?».
Яхнин умник, но и у него случаются проколы. Спустя несколько дней мы выпивали в ЦДЛ и Тарловский пошел в туалет. Яхнин ему вслед брякнул:
— Что пошел мамочке звонить?
Мы на него зашикали, и он стушевался:
— Язык мой — враг мой.
Особая нелепость — Тарловского обидела поэтесса и теперь издатель С. Пшеничных, в общем-то замечательная женщина. Тарловский (по рекомендации Кушака) нанялся к ней подрабатывать — таскать книги, а она искала сподвижника, товарища по издательскому делу, на что мой безынициативный дружок не подходил ни с какого боку. Однажды Тарловский начал ей рассказывать, как Кушак помог ему в начале литературного пути.
— …И тем самым искалечил вам жизнь, — заключила Пшеничных. — Быть может, вы стали бы хорошим директором завода (это он-то, с педагогическим вузом!).
Но в большинстве случаев наш ненормальный герой обижается на чепуху, при этом имеет вид младенца, у которого отняли соску. Яхнин, который не упускает случая посмеяться над Тарловским (а то и пошпынять его в полушутливом тоне), как-то брякнул:
— Марк! Не строй из себя молодого! Это смешно. Ты через пару лет выйдешь на пенсию…
— Ну, зачем он это сказал? — позднее жаловался Тарловский. — Зачем напоминает мне про возраст, ведь я и сам прекрасно знаю, что ненормально прожил. И говорит с какой-то радостью, хихикает.
— Брось! — успокаиваю я его. — Он тебя любит и переживает за тебя. Ну, немного относится к тебе снисходительно, иногда не принимает тебя всерьез.
— Ты думаешь, он о тебе говорит только хорошее?!
— Догадываюсь.
— То-то и оно.
— Но я к этому отношусь спокойно, а ты заводишься. Ты чересчур впечатлительный, как кисейная барышня.
В другой раз Тарловский мне пожаловался:
— Представляешь, Яхнин мне говорит: «Не знаешь Пьецуха! Эх ты, деревня!» Ну, не дурак? А сам, между прочим, не знает французского прозаика Виана… А вчера были у Постниковой, и представляешь, я что-то сказал, а Яхнин сразу захихикал: «Хорошо, что бог не дал мне таланта говорить пошлости».
— А что ты ляпнул? — поинтересовался я.
— Ну, как тебе сказать… Да ничего особенного… Ну, что-то неудачное, но зачем это раздувать, при всех делать из меня посмешище?!
— Ничего страшного, чепуха, — сказал я. — Если ты себе позволяешь корректировать других, почему это не может Яхнин?
— Не о том речь! Ну, что ты в самом деле! — повысил голос Тарловский. — Ему доставляет радость говорить мне всякие гадости.
Как-то Шульжик в нашей компании сказал Тарловскому:
— Марк, ты в «Северных сказках» допустил ляп — кисет повесил на проволоку. В фольклоре проволока! Современный материал, ха!
В тот же вечер Тарловский мне позвонил:
— …Ну, надо же! Эти сказки я переводил двадцать лет назад, и он все помнит! И с какой радостью заметил мой промах!..
В другой раз в компании Шульжик, как всегда, работал на публику и (не с бухты-барахты, а к месту), обращаясь к девицам, без всякой задней мысли, пошутил:
— Хотите жить в крайней нужде, выходите замуж за Тарловского.
— Ну, зачем он меня унизил? — опять жаловался Тарловский. — Чтобы подчеркнуть, что у него полно денег, а у меня их нет?
— Перестань пороть ерунду! — раздраженно бросил я. — Совершенно безобидная шутка. Что ты заводишься?! Тоже мне, одуванчик! Мне он и не такое говорил. Он же беззлобно…
— Да ладно, не морочь мне голову! — тянул Тарловский. — Вот ты не понимаешь. Ему доставляет удовольствие уколоть. Все-таки в нем есть какая-то пустоватость. Он беспринципный циник. Демонстрирует небрежность к друзьям. Друг для него — объект для шуток.
Недавно Тарловский сидел за столом с Кушаком и его спонсором Матвейко. Как всегда, Тарловский с сонной физиономией слушал «коммерческий» разговор друга и спонсора. Внезапно Матвейко предложил «поговорить» в ресторане и обратился к Тарловскому:
— Марк пойдете?
— А Марика-то зачем? — удивился Кушак.
— Ну, не гад? — потом поделился со мной Тарловский.
Сложные отношения у Тарловского и с критиком Штокманом. Будучи полунемцем, да еще выходцем из баронов, Штокман немногословен, держится важно, с достоинством, на его лице печать глубокой умственной работы, размышлений о смысле жизни — всем своим видом он дает понять, что в его жилах не зря течет голубая кровь (он и внешне скульптурен — помесь Геббельса с Д. Лондоном). Подходя к столу друзей в ЦДЛ, Штокман неторопливо снимает пиджак, вешает его на спинку стула, присаживается, закуривает трубку и некоторое время холодно осматривает будущих собеседников, но по мере потребления алкоголя, его взгляд теплеет, он становится все более разговорчивым и под конец застолья превращается в неумолчного тамаду. Несмотря на аристократическое происхождение, он пьет все подряд (но особенно любит «кровавую Мэри», а еще больше «перцовку») и отлично владеет отборным русским сленгом.
Я уже говорил, в шестьдесят лет Штокман начал писать рассказы и сейчас их катает один за другим (последний «Трава моего детства» напечатала «Литературка», после чего его пригласили на «народное радио», где восторженные читатели засыпали автора звонками. Кстати, название рассказа — переиначенное название моего старого рассказа «Трава у нашего дома»; говорят, и какая-то рок-группа поет «Трава у дома», но на меня не ссылается. Прочитав другой мой рассказ «Мой великий друг», Штокман тут же написал «Мой бедный друг». «Я не ворую», — говорит. Правильно — переиначивает. И не только названия, но и кое-какие мои находки и словечки коварно похищает. И не только мои — у Ю. Казакова «позаимствовал» находку из рассказа «Арктур гончий пес»). Сейчас Штокмана во всю печатают «Наш современник», «Дружба народов», «Наша улица», газета «Московский литератор»; его выдвинули на «Букера» (но не дали, черти). Я рад за успех своего друга (тем более что он считает — именно я подтолкнул его к прозе и даже «настроил» на темы «Зубовского бульвара» и «Лесного озера»), но от этого успеха у моего дражайшего друга (и во многом единомышленника) закружился черепок; я даже ему сказал:
— Смотри, не чокнись на своей популярности.
— Не дали премию! — возмущался он. — Да они там все повязаны, дают только «своим». А на премию Казакова даже не выдвинули, гады! А мой рассказ «Дальнее облако» — типичная казаковская проза (рассказ, действительно, хороший).
Недавно Штокман спросил у Тарловского:
— Что пишешь?
— Да, так, делаю адаптации, — протянул наш герой.
— А свое не хочешь написать?
— Нет.
— Это конец! — безжалостно изрек критик и прозаик, и тем самым убил несчастного Тарловского наповал.
Как-то Штокман завел с Тарловским тяжелый разговор о расстреле парламента (с Тарловским, который нельзя сказать, что совершенно аполитичен — он в курсе всего, но ему глубоко начхать на жизнь страны — устроить бы собственную жизнь).
— …Там и с той, и с другой стороны были негодяи, — только и вякнул мой друг с разбитой судьбой.
— Ну, это вы так считаете, — резко бросил Штокман.
— Ты уже со мной на «вы»? — усмехнулся Тарловский, не понимая, что Штокман имел в виду евреев.
— А я иногда забываюсь, — схитрил полунемец (у него стойкая неприязнь к «богоизбранным» и он жутко обижается, когда в его фамилии слышат что-то «еврейское»).
Не знаю, как считает Тарловский, но по-моему, у нас с ним крепкая дружба — можно сказать, особое братство; хотя, не обходится и без трений. Например, он мне все уши прожужжал про никчемный эпизод, который не стоит и выеденного яйца. Однажды мы с Ковалем выпивали в нижнем буфете и вдруг явился он, козленочек. Без всякой задней мысли я сказал:
— Странное дело Марк! Обычно тебя сюда и калачом не заманишь, но когда я встречаюсь с Юркой, ты непременно тут как тут. И как чувствуешь?!
— Что ты этим хотел сказать? — потом вопил мой друг. — Что я вам помешал, да?! И ведь часто такой бред несешь!
Я доказывал ему, что неуклюже пошутил, что он прекрасно знает — я не только друзей, но и просто знакомых зову за наш стол, тем более его, которого всегда рад видеть и которого сам когда-то познакомил с Ковалем — все впустую. Уж если он, дико мнительный, себя накрутил, его не переубедишь — гиблое дело, здесь уже его странность явно переходит в шизуху.