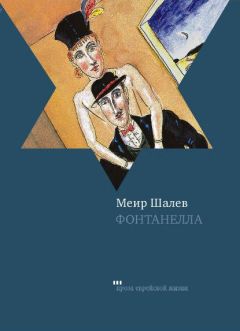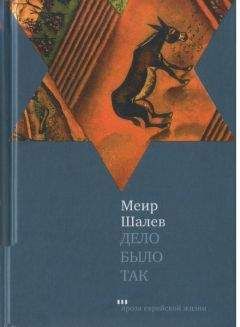Меир Шалев - Эсав
— Ихиель, — сказал я, — помнишь мозаику, которую Бринкер когда-то нашел в своем винограднике?
— Конечно, помню.
— Ты ведь тогда ее сфотографировал, верно?
— Нет.
— Брось, Ихиель. Мне нужен этот снимок, — сказал я.
— Зачем?
— Нужен, — сказал я. — Какая тебе разница зачем.
— Я не отдам эту фотографию. Ни тебе, ни кому другому.
— Да я ее не заберу навсегда. Я только сделаю себе копию.
— Нет.
— Ну, сделай сам, если ты мне не доверяешь.
— Нет.
Какое-то время я ходил между книжными стеллажами, а затем, скрывшись за синей стеной томов «Тарбута» и «Миклата», негромко произнес:
— Ну, а если я тебе дам за это последние слова, которых у тебя нет в коллекции, — тогда дашь?
В библиотеке воцарилась тишина. Я вышел из своего укрытия и увидел следы душевной борьбы на лице Ихиеля.
— Что, например, ты можешь предложить? — прошелестел он пересохшим языком.
— Например, — произнес я очень-очень медленно, — «Мир вам, друзья мои, счастье мое. Как сладостно, что мне довелось увидеть вас вновь. Помолитесь за мою душу».
— Я хочу настоящие последние слова. — Ихиель скрестил руки на груди. — Не из книг.
И тут же вынул из ящика стола фотографию, чтобы стимулировать мою память. И тогда я сообщил ему настоящие последние слова — те, что принадлежали отцовскому дяде Рафаэлю Хаиму Леви и вырвались у него на исходе Судного дня, сразу же после того, как он влил в свои пересохшие внутренности три литра слишком долго бродившей пепитады: «Дайте мне поскорее перо, я хочу писать».
— Крайне интересно, — запыхтел Ихиель. — Сам Генрих Гейне сказал нечто похожее.
Он торопливо полистал в альбоме и показал мне последние слова Гейне: «Писать… бумага… карандаш».
— У моего отца есть еще много таких дядьев, — заметил я.
— На, возьми! — сказал он. — Возьми и принеси еще. У меня есть еще копии.
Так мы с Леей начали складывать мозаику. Отец оказался поистине неиссякаемым источником. Его велеречивые мертвецы возбуждали Ихиеля Абрамсона как отточенным стилем, так и странными обстоятельствами своей кончины. Все они вели себя, как истинные литературные герои, — ни одному из них не удалось преодолеть соблазн сказать перед смертью что-нибудь значительное.
«Иссахар Фиджото, да упокоится он с миром, когда его нашли в преклонном возрасте плавающим в ливорнской бане с двумя саламандрами на животе, сказал: «Я хочу немедленно надеть брюки». Но пока ему принесли брюки, он уже вырвал червями и умер».
«Доктор Реувен Якир Пресьядучо умер, бедняга, в конце месяца элул, когда перенапрягся, трубя в шофар. Кровь брызнула у него из ушей, и его последние слова не могли найти, пока не взяли шофар и не постучали им сильно по столу».
Писательница Грация Агилар, «болезненная жещина, умершая в расцвете лет», оказывается, процитировала при своем последнем издыхании фразу из Книги Иова: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Я и сам был удивлен, когда отец заявил, что она была нашей родственницей, и еще больше удивился, обнаружив, что он говорил правду, потому что эти ее последние слова были задокументированы в книге «Доблестные женщины нашего народа».
Но однажды, когда отец процитировал последние слова одного из самых древних наших дядей по имени Элиягу Шалтиель: «Ангелы Господни, ангелы Господни…» — я не сдержался и заметил ему, что две недели назад он приписал те же самые слова одному из наших прапрадедов, Шимону Узиелю из Салоник.
Однако отец, который обычно крайне ревниво относился к своим рассказам о наших великих сородичах, на сей раз только улыбнулся и с неожиданной для него искренностью сказал:
— Какая разница, дурачок, кто сказал и что сказал. Так ли, иначе, все они мертвы.
Ихиель тоже не был удивлен, когда я исповедался перед ним в отцовском прегрешении.
— Ну, и что такого? — невозмутимо сказал он. — Не он первый, не он последний. Каждый человек может придумать последние слова, и бывает, что придумывает их правильно.
И велел мне прочесть «В сердце тьмы», дабы я убедился, что Марло, сказавший возлюбленной Курца: «Его последним словом было твое имя», был самым жестоким обманщиком из всех нас.
А отсюда до всех прочих выдумок оставался, как ты понимаешь, всего один шаг.
ГЛАВА 53
Тишина. Я фотографирую: Михаэль и Шимон играют во дворе. Шимон лежит на животе, а Михаэль расхаживает по его спине, массируя своими пятками больное тело. Шимон стонет от наслаждения. Потом, насколько ему позволяют возраст и хромота, скачет по двору, а Михаэль пытается наступить на его тень. Каждый раз, когда ему это удается, Шимон рычит в муках, а Михаэль взрывается смехом. Наконец Шимон сгребает его одной рукой и уносит в дом.
— Хватит на сегодня, пошли к отцу.
В ночь зачатия Михаэля дул страшный хамсин. По рассказам брата, легким больно было дышать раскаленным и разреженным воздухом. Птицы падали с ветвей шелковицы, теряя сознание прямо во сне. Задолго до восхода на востоке уже пылали розовые и желтые полосы, напоминавшие добела раскаленный металл. Впервые в жизни Яков ощущал, что снаружи жарче, чем в пекарне. А поутру, когда он кончил работу и взошло солнце, жара стала еще тяжелее. Он поднялся, как обычно, на веранду, снял свои запыленные мукой ботинки, поел, побрился и помылся. А затем, раздевшись догола и исполнившись решимости, прокрался по коридору к комнате Леи. И тихо открыл дверь.
Тия Дудуч с ее обостренным чутьем кормилицы сразу же поняла, что Лея забеременела. Наш отец был слишком занят собой, чтобы воспринимать что бы то ни было по ту сторону собственной кожи. А Роми, никогда не входившая в комнату Биньямина, ничего не знала до тех пор, пока ее мать, уже на шестом месяце, не появилась вдруг в коридоре совершенно голая, с животом, возвышавшимся горой Тавор и сосками, так разросшимися и потемневшими, что выглядели, как глаза совы.
— Что с ней случилось? — поразилась она. И когда отец объяснил ей, ужаснулась: — Прошу прощения, сударь, но порядочные люди так не поступают! — Ее глаза сверкали гневом. Потом она спросила, как он намерен назвать ребенка.
— Михаэль, — сказал Яков. — По имени деда.
— А если это будет девочка?
— У меня не рождаются девочки, — убежденно ответил Яков.
— Ты порой поразительно тактичен, папа, — сказала Роми.
Каждый вечер Яков ложился на пол рядом с кроватью жены. Лежа на спине, он обводил глазами комнату. Лучи заходящего солнца проникали сквозь щели жалюзи и переливались призрачным золотом на волосах Леи. Снаружи доносились резкие крики тушканчиков, занятых поиском любви и добычи. Его ладонь наслаждалась прохладой керамических плиток, которую сохраняет пол в закрытых помещениях. Время от времени он поднимал простыню, смотрел и трогал. В нем проснулось огромное желание увидеть ее изнутри, писал он мне. Я улыбнулся. Разве не то же самое уже писали Владимир Набоков, и Томас Ута, и Томас Манн? «Целовать ее печень, ее матку, гроздья ее легких, ее прелестные почки». Это истинная правда, даже если мужчины в ней не признаются. Яков приближал свое ухо к скату ее живота, как будто прислушивался к огромной раковине. Улыбка растекалась по его лицу. Шум далеких морей слышался ему, шелест волн. Маленький пленник трудился, разрывая свои узы, желая поскорее вылупиться на свободу.