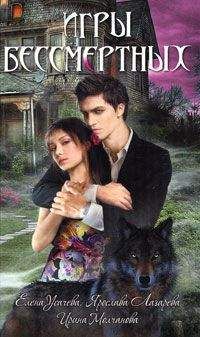Джозеф Хеллер - Что-то случилось
– Что ты сегодня делала? – Чаще всего об этом первым спрашиваю я.
– Ничего.
– Ездила по магазинам.
– Была у косметички.
– Виделась с сестрой.
– Виделась с друзьями. А что?
– Просто любопытно.
– А ты что делал?
– Работал. Больше ничего.
– Какие-нибудь новости?
– Думаю, все идет своим чередом. Не хочу об этом говорить.
– Боишься сглазу?
– Разговором можно и сглазить.
– Я постучу по дереву.
Теперь я иной раз даже по утрам ловлю себя на том, что пристально ее разглядываю, как одержимый, с той же вызывающей, нездоровой подозрительностью ищу следов, хоть и знаю, это бессмысленно – ведь она провела ночь в одной постели со мной. Не хочу сходить с ума. Хочу быть хозяином своих мыслей, чувств и поступков и всегда в них разбираться. Не хочу, чтобы рушились мои неодолимые запреты. Не то стану кидаться с кулаками (на незнакомых людей, на друзей и тех, кого люблю), убивать, извергать ненависть и фанатизм, выцарапывать глаза, развращать девочек-подростков и совсем малышек со складными фигурками, разряжаться в переполненных вагонах метро, прислонясь к крепкой заднице какой-нибудь бабенки, которая смахивает на мою жену или Пенни. Сны безжалостны, они набрасываются на тебя, когда ты спишь.
Как бы не начать заикаться.
Пробуждение – престранная штука, просто удивительно, что мы так часто ухитряемся проснуться, еще пребывая в полусне.
К мысли, что жена спит с другими мужчинами, я, пожалуй, еще мог бы привыкнуть, но не к тому, как это происходит, не к механике. А ко всем этим вторженьям и изверженьям, ко всем этим кряканьям и страстным изгибам и поворотам. Все делается влажным. Потом вокруг все вверх дном. Совсем мне не по вкусу представлять, как она с другим самцом проделывает то же, что и со мной. Или как это проделывает моя дочь. (Неужели он вставляет?… Да, конечно. А она, неужели она… а почему бы и нет?) Все и впрямь делается влажным и дурно пахнет, и это называется заниматься любовью. У зверей все происходит так же. Никакая это не любовь. Но на мой вкус лучше пусть будет влажное и дурно пахнет, чем сухое и надушенное. Терпеть не могу эти ненатуральные кондитерские ароматы. Я хочу обнять живую плоть, пахнущую остро и пряно, как положено человеку, а не кусок мыла.) Нынче даже деловые рукопожатия влажны и дурно пахнут. Покажите мне молодого человека, у которого ладонь сухая, и который пожимает руку, крепко встряхивая, и я сразу вам скажу, это молодчик без стыда и совести. Хорошо бы дочь не разбрасывала свои лифчики там, где они могут попасться мне на глаза, и не оставляла ночную рубашку на крючке в ванной. Она развилась быстро и знает это. Иной раз я вижу, как она одевается, собираясь куда-нибудь, и прихожу в ярость. (Грудь у нее уже больше, чем у матери.) Стараюсь на нее не смотреть, когда, уходя, она останавливается передо мной и просит денег, уверяя, что они ей страшно нужны. (Все, что я мог бы сказать ей сейчас, унизило бы ее, подорвало веру в себя как раз в ту минуту, когда она, может быть, в себя поверила. Хоть бы она носила лифчик, чем бросать его где попало. Она разгуливает в голубых хлопчатобумажных джинсах и, похоже, не всегда хорошо моется. Она напоминает мне ту, из Анн Арбор. С какой бы девчонкой я теперь ни познакомился, она непременно напоминает мне какую-нибудь из тех, которые у меня были прежде.)
– Не удивительно, что тебе говорят непристойности, когда ты идешь мимо. Ты сама на это напрашиваешься. Если тебя изнасилуют, поделом тебе.
Она сразу – в крик и в слезы.
– Вот ты всегда так, – визгливо накидывается она на меня (а мой мальчик смотрит откуда-нибудь из угла и опасливо прислушивается, и я уже жалею, что затеял этот разговор). – Вечно скажешь что-нибудь такое и все испортишь.
– Я уже пыталась ей объяснить, – устало, с досадой оправдывается жена. – А она считает, я к ней придираюсь и завидую ей. Она считает, я завидую потому, что у меня нет груди.
– Как это нет? Есть.
Если в ближайшее время с дочерью что-нибудь случится, виной тому будет, вероятно, парень, о котором она поминала, – он окончил колледж, водит самосвал и предложил ей вечерами и по субботам и воскресеньям учить ее водить машину, если мы позволим брать для этого одну из наших.
– Нет.
Жена согласно кивает:
– Тебе еще нет шестнадцати.
– Начну учиться немного загодя. Все уже начали. Ты ж хочешь, чтоб я сдала экзамен, верно?
Я хочу, чтобы она сдала геометрию, английский, французский, социологию и природоведение, а вовсе не вождение автомобиля. И еще хочу, чтоб она получила приличный средний балл – тогда, окончив школу, она сможет уехать в колледж. (Не желаю, чтоб она осталась дома.) Совершенно не представляю, как смогу разговаривать с каким-нибудь ухмыляющимся умником – моим зятем, много моложе меня, зная, что он преспокойно берет в работу мою дочь в другой половине дома, когда они приезжают к нам на субботу и воскресенье. Жена встречает их сладкими пирожками и ждет не дождется внучат. (Это у нее грязные мысли.) Они станут с нас тянуть то одно, то другое, станут мне врать.
– А может, она не станет. Может, она переменится. Может, к тому времени, как выйти замуж, повзрослеет.
– Мы-то не повзрослели.
– То есть как?
Жена меня не понимает.
По-моему, у нее и в мыслях нет, что я могу подумать, будто она мне изменяет, или что я все время угрожающе приглядываюсь к ее животу, волосам, бедрам, шее, груди, к комбинациям, трусикам, блузкам – не увижу ли пятен, оставленных не мною. (У жены белый, мягко круглящийся живот, как у тех очаровательных девчонок с длинной талией, которых часто видишь на фотографиях.) Нередко, когда я пристально разглядываю ее волосы или живот, враждебность моя оборачивается страстью (разумеется, враждебной страстью, которая иначе называется похотью, и сразу берет охота заняться любовью). Если обнаружу что-нибудь подозрительное, придется от нее уйти. У меня есть нечто покрепче обычной мужской лицемерной убежденности в своем супружеском превосходстве и праве, именно это даст мне решимость и силы расстаться с ней – беззащитность.
Совсем забыл: по статистике, в Коннектикуте среди причин гибели неразведенных мужчин моих лет, у которых трое детей, два автомобиля и возможность продвинуться по службе, на тринадцатом месте стоят опухоли мозга. Не удивительно, что приходится столько кричать дома, чтобы утвердить свое «я». (Вовсе не хочу, чтобы меня боялись; хочу, чтобы со мной нянчились, баловали меня. От своей семьи я не получаю той любви и сочувствия, какие в детстве получал от матери и некоторых учительниц. Хочу, черт возьми, чтобы иногда жена и дети лелеяли меня, как малого ребенка. У меня есть на это право. Мне необходимо чувствовать себя защищенным. Не из тех я родителей, которым надо, чтобы дети позаботились о них на старости лет, мне надо ощущать их заботу сейчас.) Жена уверена, что последнее время мне приятно бывать дома; где ей понять, что я только и жду, как бы поскорей смыться из дома на службу, поближе к Артуру Бэрону (мы с ним теперь постоянно переглядываемся, и, по-моему, взгляды наши полны особого значения). Конференция опять будет в Пуэрто-Рико (дабы по справедливости оказать честь семье жены Лестера Блэка), а Кейгл уехал в Толидо. Жене трудно будет простить мне, если я уволю Кейгла (разве только я скажу ей всеми словами, что выбирать не приходилось: либо я, либо он. Тогда она уставится куда-то в одну точку и не захочет больше ничего об этом знать). Она жалеет Кейгла из-за больной ноги, жалеет его жену и двоих детей. Она всегда сочувствует всем набожным семьям, кроме негритянских, и кроме еврейских тоже, – чуждый их язык («это ведь даже не латынь») и непонятные молитвы кажутся ей грубыми, оскорбительными. (Ей кажется, они молятся о ниспослании нам всяких бед.) Праздники их и то приходятся на другие дни. (Все они высокомерные и упорствуют в своих заблуждениях. Не желает она, чтоб наша дочь вышла замуж за еврея, хотя это лучше, чем за пуэрториканца или негра.) Кейгл каков есть, таким Уж и останется. Если он в воскресенье дома, он по-прежнему ходит со своей семьей в церковь, и на неделю уезжает по делам куда-нибудь в Толидо, и поближе к вечеру закатывается к низкопробным шлюхам. По-прежнему он расист и не желает брать к себе в отдел еврея или забавляться с негритяночкой, разве что поедет по делам куда-нибудь на Карибские острова. Но тогда он предпочитает молоденьких; он имел пятнадцатилетних и, я думаю, не прочь бы переспать с тринадцати– или одиннадцатилетней, да побоится, что это ненормально. Я просто вынужден его уволить; я бывал с ним у шлюх и не могу ни простить ему этого, ни забыть. Он будет топтаться на одном месте. Будет подталкивать меня плечом, непристойно посмеиваться.
– Да бросьте вы, Боб. Хватит вам. Я ж вас знаю. Вспомните, как…
– Не было этого. А если и было, я этого не помню, а вы извольте расплачиваться.
Я смещу его приятелей-выпивох из иногородних отделений и переведу в другие города, и, надеюсь, они сами уволятся. Когда мы невзначай сталкиваемся с Артуром Бэроном в коридоре, мы редко говорим о чем-нибудь таком, но он обычно перебрасывается со мной двумя-тремя фразами словно бы о пустяках, и я чувствую – мы понимаем друг друга без лишних слов.