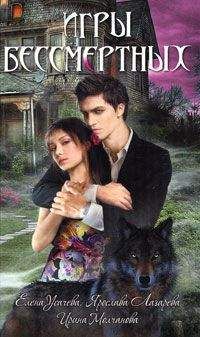Джозеф Хеллер - Что-то случилось
– Я такие тебе покажу положения – закачаешься. У нас с Биллом полное понимание.
– То есть?
– Я делаю, что хочу. А не нравится ему, может убираться ко всем чертям.
– Подходящий разговор о миллионере, ничего не скажешь.
– Фиговинка.
Когда в среду она мне позвонила, я не захотел с ней встречаться и сказал – у меня заседание. (Боялся Билла, да и что за охота опять встречаться с бабой, которая называет тебя фиговинкой.)
– Я у парикмахера, – сказала она мне в следующий четверг.
– Я ждал тебя вчера, – опять соврал я.
– Привыкай брать, когда дается. Позавтракаем вместе.
– Невозможно.
– Плачу я.
– Не в том дело.
– Может, я не так красива?
– Что ты. Еще как завлекательна.
– И он тоже, фиговинка.
– Кто?
– Парень, с которым встречусь вместо тебя. На тебе свет клином не сошелся, дитятко. Поговорим с ним о тебе.
– Он меня знает?
– Здорово посмеемся.
– Кто он такой?
– Я-то знаю, а вот ты попробуй узнай.
(Похоже, она мой злой гений.) Похоже, она станет без предупреждения являться ко мне на службу в любое время, лишь бы выставить меня дураком перед всеми сослуживцами.
– Боишься меня, а, фиговинка? – проказливо поддела она меня, когда мы снова встретились на каком-то вечере, и тут же при моей жене и своем муже, которые смотрели с разных концов комнаты, это самое и сделала – потянула меня за нос. – Ведь он меня боится, миссис Слокум?
– Хорошо бы он боялся меня, – отозвалась издали жена.
– Позвони мне в среду, – огрызнулся я. – Я тебе покажу, как я тебя боюсь.
– Я в городе, – сказала она, когда позвонила.
– Боюсь, у меня грипп, – прогнусавил я, вроде как извиняясь.
– Так я и думала, дитятко, – любезно прочирикала она, – и на этот случай прихватила с собой список телефонов. А ты и вправду малое дитятко. Только на вечерах разыгрываешь храбреца. Ну, на тебе свет клином не сошелся.
Вот бы заполучить ее прямо сейчас, в той самой позе на коленках, как тогда в машине. И Вирджинию тоже. С женой я проделывал это тут в кабинете сколько раз. Мы с женой до сих пор нет-нет да и сорвемся с цепи, что тебе в медовый месяц, и во время бурных этих приступов носимся как бешеные по дому и даже по саду. И пьем. У себя в доме мы занимались любовью уже во всех комнатах, кроме комнат детей и няньки Дерека. Занимались любовью и в примыкающем к дому гараже – ночью, когда боялись разбудить кого-нибудь из спящих в доме, – и подле дома, в темноте, на мокрой от росы траве. (Будь у нас плавательный бассейн, мы бы уж непременно хоть раз попробовали и в бассейне.) Мы занимались этим на плетеном диванчике во внутреннем дворике… Опять слышу резкий запах ее духов (и оборачиваюсь). Конечно же, ее муж знал. Интересно, как он это выдерживал. Вот я, к примеру, просто вне себя, просто готов биться головой о стену, едва вспомню, что совсем недавно эта вульгарная, с дурным вкусом баба назвала меня фиговинкой и у всех на виду потянула за нос или что мои подвязки неизменно смешили ту безмозглую зануду, исключенную из университета Анн Арбор, которая ходила в бумажных джинсах и куртке и, кажется, никогда не мылась дочиста. Не желаю, чтоб они хоть один миг надо мной торжествовали. Жаль, что я не вложил их обеих в ЭВМ, чтоб можно было в любую минуту вызвать их и начать все сначала. Вышло бы все то же самое. Одна потянуда бы меня за нос, другая ухмылялась бы и нахально посмеивалась над моими подвязками. Первой я позвонил как-то спустя два месяца и назначил свидание, а потом пришлось звонить еще раз и отменять его. А я как раз хотел ее видеть.
– Теперь это чистая правда, – объяснял я ей. – Я должен уехать. Позволь, я тебе позвоню, когда вернусь.
Оба раза голос ее звучал скучно и вяло, словно ни на какие хиханьки ее уже не хватало. Казалось, ей все до лампочки.
– Ладно, – сказала она. – Ты молодец. Я подурнела. За один день.
Они с мужем разошлись и разъехались в разные стороны. Дети все в колледжах. Дом стоит пустой, и никто не знает, то ли он продается, то ли нет. Наверно, нам с женой тоже в конце концов придется разойтись – когда дети уедут в колледж. Хоть бы это не случилось раньше, пока я еще не перешел на другое место в Фирме, пока дочь еще школьница, подросток, и сама не знает, чего хочет, а мой мальчик замирает от ужаса перед Форджоне и перед канатом, на который надо взбираться, и нельзя еще с уверенностью сказать, пойдет ли его дорога по жизни вверх или вниз. Жене нечем заняться.
– Мне нечем заняться.
Ей нечем заняться, кроме как от нечего делать присоединиться к самоновейшему движению за освобождение женщин (хотя их крикливые споры насчет оргазма, онанизма и женского гомосексуализма ее все же смущают).
– Ты смущаешься просто потому, что тебя так воспитало общество, в котором верховодят мужчины, – объясняю я.
Она не понимает, на ее я стороне или нет.
– Почему все преимущества должны быть у вашего брата? – удрученно недоумевает она.
– Неужели, по-твоему, я похож на человека, обладающего всеми преимуществами? – мягко спрашиваю я в ответ.
– Ты служишь.
– Служи и ты.
Она тихонько посмеивается, качает головой.
– Не хочу я работать.
(В чувстве юмора ей не откажешь.)
– Хочешь, чтоб у тебя, было больше денег?
– При чем тут деньги. Тебе всегда кажется, дело в деньгах. Просто мне нечем заняться.
– Крути любовь. Изменяй мужу.
– Вот чего тебе хочется.
– Совсем мне этого не хочется. Я смогу тебе давать больше денег, если это прибавит тебе радости. У меня будет такая возможность.
– Мне не это нужно, не этого хочется. Я ведь ничего не умею.
– Займись лечением рака. Деньги – это тебе, знаешь ли, не дерьмо.
– Пожалуйста, не злись на меня сегодня.
– Деньги – это любовь, детка, а вовсе не дерьмо. И я не злюсь.
– Так худо себя чувствую.
– Не пей виски после вина, тогда, может, не будешь себя худо чувствовать.
– Это, наверно, месячные. Ты даже выглядишь моложе меня. И это несправедливо.
– Ты проживешь дольше. Женщины дольше живут.
– Но буду выглядеть старше.
– Ну а как же иначе, если живешь дольше? По крайней мере будешь живая.
– Я шучу, – говорит она. – Ты даже не понимаешь, когда я шучу. С тобой становится все трудней разговаривать.
Моя собственная удачная острота насчет Фрейда, денег и экскрементов до нее совсем не дошла.
Наверно из-за чего-нибудь в этом роде мне все-таки рано или поздно придется с ней развестись (она тоже понятия не имеет, кто такой Коперник или Кьеркегор, о Камю, может, слышала: он ведь был убит в роскошной спортивной машине), вот только я не захочу разводиться, пока мой мальчик так остро во мне нуждается. (Вовсе я не уверен, что он хоть сколько-нибудь во мне нуждается.) Боюсь, он не переживет, если я вдруг умру или уеду. (Если меня не станет, ему будет очень худо, но, что тому причиной, он не поймет. Желание дочери присвоить нашу машину, возможно, знак вполне здорового развития: это дает ей цель, к которой можно стремиться.) Когда он вырастет и уйдет от меня, я уйду от него. Дочь тоже уйдет из дому, и останется только Дерек, если мы еще раньше от него не избавимся. Я не захочу бросить жену и навязать ей умственно отсталого ребенка. Вообще-то я рад бы навязать ей Дерека. Она-то мне его навязала. (А ведь он тогда еще и ребенком не был.) Но все примут ее сторону, разве что я брошу ее ради другой женщины, вот это сразу все изменит – ведь это так романтично. Наверно, я все-таки сбегу. И тогда пойдут пересуды:
– Почему он бросил жену? У них ведь, кажется, умственно отсталый ребенок?
– Он влюбился в другую и удрал с ней.
– А-а.
Или:
– Почему он бросил жену с умственно отсталым ребенком?
– Надоела женатая жизнь.
И тогда не оберешься таких вот пересудов:
– Только о себе и думает, правда?
И еще:
– Какой эгоист! Бедная женщина. Бросил ее с умственно отсталым ребенком просто потому, что не хочет больше с ней жить. Что она будет делать, бедняжка?
Так и слышу, как меня хором поносят на всех этажах нашей Фирмы. Но ведь и теперь, когда дело касается Дерека, жене от меня помощи ни на грош. Не хватает меня на это. Предпочитаю увиливать или притворяться, будто ничего не замечаю. Кому-то придется решать вместо меня: она сама будет решать, даже не отдавая себе в этом отчета, либо доктор даст нам недвусмысленный совет, исходя из чего угодно, только не из нашего эгоизма. (Совесть наша должна быть чиста.)
– Ему там будет гораздо лучше, безопаснее. Теперь есть хорошие дома. Так будет лучше для всех вас, для Других ваших детей. Ведь то, что он с вами, несправедливо по отношению к ним. Вам необходим отдых. Вас обоих не в чем упрекнуть. Я понимаю, вам трудно от него отказаться.
Или надо, чтоб подоспела болезнь или несчастный случай.
До тех пор я бессилен. (У меня не хватает ни мужества, ни желания об этом говорить. Мне нечем ответить на обвинения, которые, я думаю, на меня посыплются. Не хочу до конца своих дней слушать, как жена будет угрызаться и каяться. Сам бы я в два счета себе простил, что отдал его. Жена не простит ни себе, ни мне.) Я не тот столп, который мог бы служить ей желанной опорой. Я молчу, подавляю свои чувства, упорно отказываюсь страдать заодно с ней. (Не стану делить с ней мое горе. Не желаю, чтобы она была к нему причастна. Оно мое и только мое.) Хорошо бы от меня никто не зависел. Сознание, что есть люди, которые во многих отношениях от меня зависят, ничуть не возвышает меня в собственных глазах. Это ведь такое постоянное бремя, и чем дальше, тем сильней я возмущаюсь всякий раз, как приходится ждать, чтоб она перестала плакать и цепляться за меня и вновь принялась укладывать столовое серебро в мойку или делать гимнастику для талии и бедер. (Не выношу, когда женщина плачет, кроме как на похоронах. Меня это ужасно выматывает.)