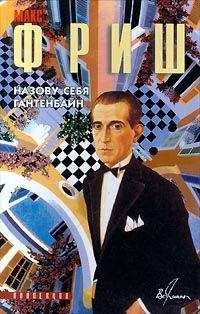Макс Фриш - Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн
Да, спрашиваю я, разве не так?
Молчание.
Гантенбайн продолжает говорить, я вижу, как Антонио снова берет бокал спящей графини, чтобы выпить его; иначе ведь он не может его наполнить, я понимаю, и, когда он потом снова наполняет бокал, он держит бутылку довольно высоко, чтобы Гантенбайн слышал бульканье.
Действительно ли он думает, что Гантенбайн ничего не замечает?
Или только Гантенбайн думает, что лакей так думает?
Позднее, за черным кофе, который подается на воздухе, в лоджии, игра, собственно, уже не нужна; Антонио смылся, его последнее дело сделано, как только он налил кофе в две драгоценные чашечки, исполнив супружеский долг графини. При этом он даже коротко ответил графине, которая отсутствует; могло ведь так быть, что из-за порханья голубей Гантенбайн пропустил мимо ушей ее случайный вопрос, тем более что она всегда говорит тихо.
— Come no, Contessa, come no![166]
Способный малый.
— Come mai, — смеется он, — come mai![167]
Этот второй ответ он выдает уже издали, я вижу, как он при этом уже стягивает свои белые перчатки с пальцев; в присутствии графини он ни в коем случае не стал бы этого делать. Потом он смылся, но вот Гантенбайн уже и вправду (не только в угоду лакею) говорит с графиней, которая все еще спит, потому что опять приняла наркотик, а наркотик она принимает потому, что несчастна.
— Лиля, — спрашиваю я, — почему ты несчастна?
К счастью, Гантенбайн не кладет в кофе сахар, графиня это знает, и потому ее отсутствие не бросается в глаза, когда она не предлагает ему сахару.
— Разве я не мужчина? — спрашиваю я.
При этом Гантенбайн курит сигару, глядя на Канале Гранде, который может человеку и опротиветь.
— Ты несчастна из-за меня?
Поскольку графиня молчит, то по крайней мере этот вопрос не остался без ответа, а откровенность вызывает откровенность. Правда мучительна, но ясно, что теперь хочется знать все подробнее. Раз уж на то пошло! Наедине с двумя драгоценными чашечками, которые Гантенбайн, прежде чем он обретает способность говорить дальше, выпивает одну за другой, я спрашиваю, отличается ли и в какой степени объятие с другими мужчинами от объятия со мной, — на такой вопрос женщина, у которой есть вкус, все равно никогда не ответит и ее молчание снова не означает, что графиня отсутствует.
Воркуют голуби Венеции.
— Лиля, — говорю я, — так дальше нельзя!
Она не спрашивает:
— То есть? Что ты имеешь в виду?
Она ведь отсутствует, но это не бросается в глаза; даже будь она здесь, она бы сейчас, призванная к ответу, долго молчала, покуда я не спрошу напрямик:
— Что у тебя, собственно, с Нильсом?
Молчание.
— Возможно, кто-то другой? — спрашиваю я, и в первый раз мы говорим так откровенно, притом совершенно спокойно; она не может сказать, что я кричу на нее, и поэтому молчит, в то время как Гантенбайн улыбается; я наслаждаюсь ее спокойствием, его мужественностью, его слепой готовностью взглянуть любому факту в глаза, и спрашиваю еще раз: — Возможно, это кто-то другой?
Ответа нет.
— Так кто же это? — спрашиваю я.
Но я понимаю, что на это она не может ответить; Гантенбайна это не касается. Или она все еще боится, что я накричу на нее? Только чтобы что-то сказать, чтобы показать спокойствие Гантенбайна, я говорю спустя несколько минут, заполненных воркованьем знаменитых голубей:
— Я всегда думал, что это Нильс.
Первый раз я произношу это имя, приготовившись к тому, что графиня теперь начнет укладывать чемоданы, чтобы, вероятно, никогда не вернуться, притом сегодня же, даже если поедет она не к Нильсу, ибо это дело давнее, а потому это смешно, но смеяться не хочется, графиня, во всяком случае, не смеется, и, поскольку уж Гантенбайн, один в венецианской лоджии, произнес это имя, я не могу избежать признания:
Я прочел однажды письмо из Дании…
Что может ответить графиня на это мое чудовищное заявление?.. Графиня, которая спит…
Разговор с Бурри о нашем недавнем разговоре; мне бы все-таки очень хотелось знать, как видит он «мою» Лилю. Он говорит о ней с уважением, которое мне льстит. И вместе с тем я испугался. Когда Бурри ушел, я еще час-другой сидел как истукан, подперев подбородок руками. Он говорил о ней (впрочем, коротко) как о настоящем человеке, и я, кажется, единственный, кто ее не видит.
Лиля — актриса:
(Дополнение)
Ее восхитительная игра с кухонным фартучком, когда приходят гости, и еще ни один гость не разглядел этой игры, даже трезво-хитрый Бурри — и тот; Лиля, вероятно, и сама верит в нее — за четверть часа до прихода гостей Лиля возвращается домой, до смерти усталая от своих макбетовских репетиций, состоявшихся в первой половине дня, а сейчас вечер, она плюхается в мягкое кресло, чтобы сразу же, хотя она смертельно устала, почитать новые журналы, не снимая пальто, не глядя на стол, который Гантенбайн тем временем накрывает; она может положиться на Гантенбайна. Разве что оторопело спросит в последний миг: «Ты не забыл о майонезе?» Он не забыл. Счастье, что гости обычно опаздывают; надо же Лиле в конце концов причесаться. Он не забыл не только о майонезе, но даже о хлебе, что меньше бросается в глаза, когда он есть. Лиля заказала омара, которого в самом деле доставили, и, таким образом, все в общем-то готово. Она гордится прекрасным омаром, досадно, что Гантенбайн не видит, как он прекрасен, этот омар, которого она выбрала по телефону. Багровое чудо, омар, не забывающий решительно ни о чем: не только о майонезе, но и о вине, которое к нему подходит, и о холодном мясе, на случай, если кто-нибудь его, омара, не любит, и о фруктах, которые придутся кстати позднее, когда его ошметки будут уже в мусорном ведре. К счастью, как было сказано, гости всегда опаздывают, так что Лиля, причесываясь, может сообщить слепому Гантенбайну, кто придет; ведь во всякой компании оказываются люди, которым не дают слова сказать, и получится неловко, если Гантенбайн сделает из этого вывод, что о них можно говорить, как будто их здесь нет. Необходимо, чтобы он запомнил список имен. Когда наконец звонят, Лиля, хоть она и отлично причесана, не может подойти к дверям: это момент, когда ей нужно надеть фартучек для приема гостей. Гантенбайн распределяет сейчас имена, которые он запомнил, и кресла по именам. Лиля наспех здоровается с гостями, которые, глядя на нее, изумляются: леди Макбет в кухонном фартучке. Гости тронуты, все хотят помочь, кроме Гантенбайна, поскольку он знает, что все уже сделано.
— Оставьте, пожалуйста, — говорит она, — я сама!
Она наспех выпивает аперитив.
— Оставьте, пожалуйста, — говорит она, — я все сделаю!
Задача Гантенбайна состоит теперь в том, чтобы разделять восторги гостей, по крайней мере не мешать, когда Лиля ходит в своем фартучке взад-вперед, туда и сюда. Гантенбайн в роли паши. Чем занята Лиля в кухне, покуда гости, попивая виски, с восторгом стыдятся, что доставили этой большой актрисе столько хлопот: салатом, который Гантенбайн для страховки помыл заранее. Гантенбайн в роли паши, закинув ногу на ногу в кресле-качалке. Надо надеяться, она ничего не забудет. Она в полном замешательстве, но ей это идет. К сожалению, нет лимонов, говорит она, и это досадно; лимоны лежат в кухне, но Лиля не видит их, это действительно досадно. Потом неохотно она снимает знаменитый фартучек. Как только наступает эта минута, Гантенбайн знает, что теперь он может делать все без риска разрушить этим первое впечатление; он приносит лимоны и т. д.
Меняю еще раз:
Лиля не графиня, равно как и не актриса. Не понимаю, как могло мне это прийти в голову. Лиля просто женщина, замужняя женщина, она замужем за человеком, с которым я должен был тогда встретиться в баре. Ей тридцать один год. Не морфинистка; не католичка; без профессии. Очаровательная женщина; не надо мне об этом твердить, я и сам это знаю. С какой стати у Лили должна быть профессия? Может быть, в юности она и была студенткой-медичкой, даже сдала первые экзамены, но потом помешало замужество, а может, училась в театральном училище, даже играла один сезон бок о бок с громкими именами; все это вполне возможно, но совершенно не важно. Она может обойтись без этого, она женщина. Она чувствует себя независимой и без собственного дохода. В противном случае она в любой момент была бы готова работать, ей не пришлось бы бедствовать и ходить в платьях, сшитых собственноручно, с ее знанием языков она всегда бы устроилась секретаршей, например в издательстве, не в торговле или в системе социального обеспечения, не в общем, сером ряду; лучше всего в издательстве, говорит она, редактором. Она была бы к этому готова в любой момент. В этом нет нужды, поскольку она замужем. Иногда она прямо-таки тоскует по работе, по заброшенной профессии, в которой не оказалось нужды. Она не домашняя хозяйка. Она больше любит читать. У нее есть собственная машина; иначе она не чувствовала бы себя независимой, подарок ее мужа, который зарабатывает достаточно. Она замужем все еще в первый раз. Она здоровая, даже сильная женщина, хотя сложения хрупкого, так что легко испытываешь нежный страх за нее; ранний туберкулез давно вылечен, это воспоминание, которым она лишь изредка пользуется, чтобы потребовать пощады, только в крайних случаях. Она не беспомощна (как графиня) и не честолюбива (как актриса), но и она, как сказано было, отнюдь не домашняя хозяйка; для этого она слишком духовна, и мужчинам не убедить ее в том, что у женщин есть прирожденная способность именно к тем работам, которые самим мужчинам слишком скучны. Она женщина, но не верноподданная, стало быть, женщина вполне современная, великолепная женщина, по-моему одна из первых женщин этого века, которая без жеманства признается самой себе, что ее, в сущности, вообще не тянет ни к какой профессии.