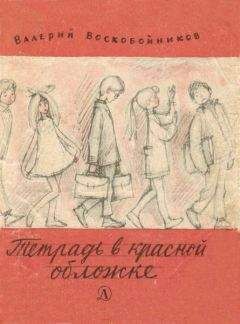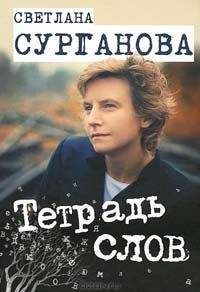Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
14 января
И вновь воскресенье. Сегодня все ушли из дома сразу после завтрака; Микеле поехал навестить своего отца, хотел, чтобы я тоже поехала, но я сказала, что дел много и что попозже я бы хотела отдохнуть. Он взял меня пальцами за подбородок и спросил: «Что с тобой, мам? Ты как будто частенько предпочитаешь оставаться одна. Риккардо совершенно прав, когда утверждает, что ты изменилась с некоторых пор». Я ответила, что да, в каком-то смысле это так, но как раз из-за детей: я вечно в тревоге за них, потому что они больше не похожи на себя, больше не довольствуются тем, что когда-то делало их счастливыми. Заодно рассказала, что вчера Мирелла опять просила новое пальто: она считает, что мы можем купить его, стоит только захотеть, потому что и Микеле, и я получили премию на Рождество. Напрасно я пыталась втолковать ей, что эти деньги уже предназначены для других трат, – может, она думает, что мы хотим оставить их себе, тщательно заперев в ящике. Микеле заметил, что, вообще-то, даже пожелай мы оставить эти деньги себе, у нас есть на то полное право: «Это наши деньги, мы их заработали, ты тоже могла бы мечтать о новом пальто, тебе не кажется, мам?» Я сказала, что обратила внимание дочери и на это, но она ответила, что новое пальто в сорок три года уже не очень-то важно. Микеле улыбнулся, и я надеялась, он опровергнет ее довод; но вместо этого он завершил разговор репликой «Ну да, может, она и права» – и вышел, нежно обняв меня перед этим.
Я еще не решилась сказать Микеле о том, что произошло между Миреллой и мной в тот вечер, когда она вернулась домой поздно: утром я даже сказала ему, будто дочь пообещала больше так не делать. Хочу уберечь его от непрестанной тревоги, охватившей меня с того вечера. Кроме того, мне не хватало смелости процитировать ему ту низость, которую она сказала мне, прежде чем закрыться у себя в комнате: «Тебе завидно». Боюсь, что он, как и в случае с новым пальто, может взять да и заметить, улыбаясь: «Может, она и права».
Позже
Я прервала свои записи чуть раньше, потому что услышала какой-то шум в дверях, мне казалось, кто-то вставил ключ в замочную скважину. Застигнутая врасплох, я не знала, куда положить тетрадь: огляделась, но вся мебель казалась мне стеклянной, прозрачной – казалось, куда бы я ее ни спрятала, все равно будет видно. Я ходила туда-сюда с тетрадью в руке и наконец поняла, что шум доносился из соседней квартиры; успокоившись, я улыбнулась своим страхам. Прежде чем снова приняться за письмо, я подошла к двери и закрыла ее на цепочку, подумав, что всегда смогу сказать, будто сделала это по рассеянности. Но это действие, совершенное инстинктивно, немедленно породило во мне чувство ужаса, потому что показало, до какой степени я, всегда считавшая себя честной и верной женщиной, смирилась с самой возможностью лгать – и даже готовить себе алиби. Я подумала о Мирелле, которая умело наврала нам несколько дней назад, сказав, что встречается с Джованной, и кто знает, сколько еще раз она обманывала нас прежде, о Риккардо, который, чтобы получить чуть больше денег от отца, сказал, что купил книгу, которой на самом деле вовсе не покупал. Я задавалась вопросом, как же в таком случае лжет сам Микеле, – ведь и я тоже обманываю, ведя дневник. Понемногу, блуждая среди этих мыслей, я заплакала. Я сидела одна в пустом доме, в воскресной тишине, и мне казалось, что я навсегда потеряла всех тех, кого люблю, раз на самом деле они не такие, как я всегда себе представляла. И особенно если я сама не такая, как они представляли себе меня.
До сих пор я всегда думала, что мы четверо – Микеле, Мирелла, Риккардо и я – крепкая, безмятежная семья. Мы по-прежнему живем в том же самом доме, куда мы с Микеле переехали жить, как только поженились. Он стал слишком тесным; чтобы выделить комнату Мирелле, нам пришлось отказаться от гостиной; комнаты слишком маленькие, но мне казалось, что, может быть, от этого они крепче обнимают нас, собирая в одной скорлупе. А еще я всегда думала, что во многих – самых важных – отношениях нашей семье повезло больше других: мы с Микеле ни разу за много лет серьезно не ссорились, он все время работал, я тоже нашла работу, когда захотела, дети здоровы. Может быть, в этой тетради я как раз хотела рассказать безмятежную историю нашей семьи: возможно, именно эта причина подтолкнула меня приобрести ее. Мне хотелось бы перечитать дневник, когда дети женятся и мы с Микеле останемся одни. Тогда я могла бы с гордостью показать тетрадь Микеле, словно без его ведома скопила целое достояние, чтобы обеспечить нам старость. Это было бы очень здорово. Но с тех пор, как я начала делать записи, мне уже не кажется, что все события, которые происходят в нашем доме, приятно будет вспомнить. Наверное, я слишком поздно завела дневник, надо было написать о том, как Риккардо и Мирелла были малышами. Теперь они уже взрослые, хотя мне все еще не удается считать их такими: у них есть все присущие взрослым слабости, быть может, уже и все их грехи. А иногда я, наоборот, думаю, что напрасно пишу обо всем, что случается; в письменной форме дурным кажется даже то, что в сущности не дурно. Я напрасно написала о беседе, которую провела с Миреллой, когда она поздно вернулась домой, и после долгого разговора наедине мы разошлись не как мать и дочь, а как две женщины-соперницы. Не запиши я, забыла бы этот случай. Нам всегда свойственно забывать то, что мы сказали или сделали в прошлом: в том числе для того, чтобы не брать на себя жуткую ответственность блюсти верность сказанному. Мне кажется, что в противном случае нам всем пришлось бы обнаружить, как много в нас заблуждений и особенно противоречий – между тем, что мы вознамерились сделать, и тем, что сделали, между тем, кем хотели быть, и тем, кем стали на самом деле, удовлетворившись этим. Может, поэтому в тот вечер я спрятала тетрадь еще тщательнее обычного: встала на стул и положила в бельевой шкаф. Мне казалось, будто, пряча ее, я легче смогу одолевать овладевшие мной сомнения: я прожила около двадцати лет со своей дочерью, кормила, воспитывала, изучала ее характер с исполненной любви заботой и должна признать, что на самом деле совершенно ее не знаю.
15 января
Вчера я бросила писать и, пренебрегая всеми накопившимися домашними делами, пошла навестить свою мать. Она живет здесь рядом, в маленькой, но залитой солнцем квартире. Старики придают огромное значение солнцу: когда я жила с ними, даже не замечала, что дом обращен к югу, а она вечно этим хвалится. Моя мать очень радуется, когда я прихожу навестить ее в воскресенье, ей кажется, будто я преподношу ей пару-тройку часов, отобранных у Микеле, и это ей льстит, приносит удовольствие.
По воскресеньям, если погода хорошая, моя мать пребывает в дурном расположении духа: ведь в таком случае отец уходит один на долгую прогулку. Сначала они вместе идут на десятичасовую службу, затем он неспешно провожает ее до самого дома, нежно подставляя руку. Но едва дойдя до парадной двери, он с ней прощается, и все, вот он уже далеко, а мать, остановившись на тротуаре, следит за ним хмурым взглядом. Не оборачиваясь, чтобы попрощаться, отец идет бодро и быстро, словно желая тем самым продемонстрировать, что куда моложе ее, хоть они и одного возраста – семидесяти двух лет. Он еле-еле опирается на трость с рукояткой из слоновой кости, а затем вновь вскидывает ее вверх гибким движением, как было модно в его времена. Он доходит аж до виллы Боргезе, до Озерного сада, а когда возвращается, рассказывает матери о природе, о деревьях, дышит глубоко, по-юношески, словно желая подтрунить над ней. Надо ли говорить, что у него получается: мать на весь день закрывается в негодующем молчании. Все то же самое происходило и в моем детстве, когда отец по воскресеньям ходил на фехтование или греблю.
Дома у моей матери все всегда по-прежнему: старая служанка все еще называет меня «синьориной», сама же мать продолжает называть меня «Бебе», хотя я говорила ей, что это нелепо, у меня уже немало седых волос. Когда я захожу в дом, ноги сами несут меня в комнату, которая была моей детской, мать следует за мной, и мы запираемся там поговорить. Комната нисколько не меняется, и я всегда возвращаюсь туда с легкими угрызениями совести, словно съехаться с Микеле было с моей стороны каким-то бунтарским поступком, неким безумием. Когда я оказываюсь в этой комнате с матерью и мы говорим о нем и о детях, она – несмотря на то, что нежно любит их, – слушает меня так, что кажется, будто я говорю о каких-то чужих людях, тайком прокравшихся между нами и разделяющих нас.