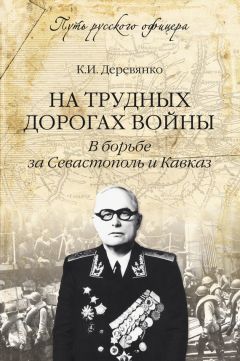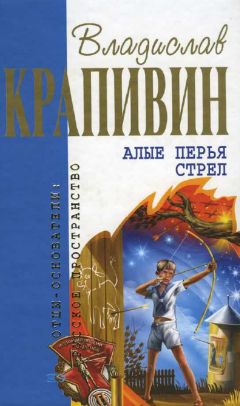Перья - Беэр Хаим
Сняв очки, Риклин протер их краем скатерти. Матерью только что упомянутого им Бриска, сообщил он, была Рохка Липелес, та самая праведная женщина, что жила в подвале большой синагоги «Бейт Яаков», во дворе «Хурвы» [87]. Эта Рохка приходилась дочерью старой Липеле, сочинившей книгу молений, которая так полюбилась еврейским женщинам, уточнил реб Элие. Здесь моя мать, позабывшая на миг о своем горе, спросила его с улыбкой, не та ли это соломенная вдова, что в канун каждого новомесячья ходила к гробнице Рахели [88] обутая в шлепанцы. Риклин утвердительно кивнул и сказал, что о человеке нельзя судить по его внешнему виду.
Отец, добавил старик, не жалел своих денег и сил в поисках выпущенных Бриском брошюр, давно уже ставших библиографической редкостью. В конце концов ему удалось все их собрать. Риклин с отцом днем и ночью трудились над составлением точных карт каждого из участков кладбища, но дело это оказалось непосильным для двух немолодых и уже нездоровых людей, которым воздавалось за их труды лишь презрением и поношением со стороны домочадцев. Увы, собранные отцом брошюры и составленные им вместе с Риклином карты и записи лежат теперь без использования в конторе погребального братства.
Реб Элие встал и, уже оказавшись в коридоре, сообщил, что завтра он будет ждать нас во дворе больницы «Бикур холим», откуда погребальная процессия отправится на кладбище. Он также посоветовал матери завесить зеркало белой материей, чтобы душа умершего, все еще пребывающая в доме, не испугалась своего отражения и не ослабла.
Риклин ушел, мать бросилась на кровать. Комкая оставшийся у нее в руках продолговатый конверт, она раз за разом шепотом произносила имя отца, и голос ее был таким мягким и нежным, каким я никогда его прежде не слышал.
Но в тот далекий полдень, в самом начале пятидесятых, мать, готовившая постельные принадлежности к глажке, быстро опрыскивала их своей легкой, словно порхающий голубь, рукой и без устали ругала отца и Риклина. Закончив работу, она встала у двери и ледяным голосом сообщила, что настало время открывать лавку.
Могильщик оторвал глаза от расчерченного на квадраты листа бумаги и сказал, что мы, то есть мать и я, напоминаем ему учеников, пришедших к сидевшим за трапезой в Бней-Браке мудрецам, дабы сообщить им, что наступило время чтения утреннего Шма [89]. Мать, не удостоив Риклина вниманием, сказала отцу, что его первейшей обязанностью является воспитание детей и что он плохо с этим справляется, если его единственный сын водит дружбу с таким сомнительным типом, как Ледер из школы слепых.
Отец пробормотал что-то неразборчивое, а Риклин, сердившийся на Ледера с тех пор, как тот доставил ему большое неудовольствие в гостях у супругов Рингель — и об этом еще будет рассказано ниже, — охотно поддержал мать, заметив, что низкорослый сборщик пожертвований, очевидно, повредился рассудком. В последние годы перед провозглашением государства, добавил он с заговорщицким видом, ему не раз доводилось видеть Ледера сидящим в саду кафе «Пат» в обществе двух православных монахинь, которых он, Риклин, часто встречал и всегда любезно приветствовал на тропинках Масличной горы. А тому, кто полюбопытствует, что сам Риклин делал вблизи кафе «Пат», достаточно будет вспомнить, что мимо этого заведения он регулярно проходит по улице Ѓа-Солель, возвращаясь домой из конторы погребального братства.
Мать, припомнив, что Ледер уже и в юности увлекался монашками, все же удивилась, что он, не зная русского языка, умудрялся общаться с двумя московитками. Впрочем, промелькнувшее у нее сомнение не помешало ей опереться на сообщенные Риклином сведения, и она посоветовала отцу обратить внимание на слова реб Элие: отец должен наконец понять, что Ледер способен ранить сердце его ребенка, и не кончит ли тот подобно реховотскому Ѓольцману, который, объездив весь мир, растратил остатки своего состояния на перья кичливых страусов [90].
Риклин прервал мать, заметив, что, несмотря на свою профессию, он хорошо разбирается в живых людях и знает, что на самом деле они крепки и устойчивы, пусть иногда и кажутся слабыми. А монахини, по поводу которых мать вроде бы выразила сомнение, хоть и принадлежат к православной церкви, превосходно говорят по-английски. Риклину об этом стало известно со слов одного из сотрудников польского консульства, отвечающего за работу телеграфного агентства своей страны. Тот близко знаком с обеими, и от него реб Элие знает, что одну из монахинь зовут мисс Мэри, что она приходится сестрой генералу Окинлеку [91] и что в Иерусалим она приехала много лет назад, совершая свадебное путешествие со своим молодым супругом, который, кстати сказать, был депутатом британского парламента и известным предпринимателем. К вящему огорчению мужа, оказавшись в Иерусалиме, Мэри обнаружила, что ее сердце переполняет любовь к святому городу. Брошенный ею супруг вернулся в Альбион, а сама она поселилась на склоне Масличной горы и, поступив затем в православный монастырь Марии Магдалины, что в Гефсиманском саду, построила на свои средства русскую школу в Тур-Малке [92].
Вторую монахиню, сообщил Риклин, зовут Тамара, и она, настоятельница монастыря в Тур-Малке, является не кем иным, как княжной Татьяной Романовой, родственницей царя Николая Второго, чудом спасшейся от революционной расправы, бежавшей в Англию и выдавшей там свою дочь замуж за Чарльза Джонстона, британского дипломата и губернатора Адена [93].
Мать не сумела скрыть своего удивления осведомленностью Риклина о тайнах русской колонии в Иерусалиме, но, заметив, что я все еще стою у входа в спальню, она вспомнила о Ледере и сказала с усмешкой:
— Кажется, об этом и говорил пророк, возвещавший, что все народы мира устремятся к Иерусалиму, хотя ему, конечно, не приходило в голову, что они направятся сюда по следам того человека [94]. А Ледер, подсказывает мне сердце, тоже является его тайным последователем.
Риклин промолчал. Своей сухой, скрюченной ревматизмом рукой он погладил меня по голове и затем извлек из сумки необыкновенно красный апельсин.
— Ты пробовал кровавые апельсины, майн кинд? — спросил он, протянув его мне.
Отец, встрепенувшись, сказал, что лучше не рисковать нарушением одной из семи заповедей, вмененных в обязанность даже народам мира [95]. Зачем мне есть этот плод, мякоть которого в самом деле кроваво-красного цвета?
Мать рассмеялась, позабыв на мгновение, что она сердится на отца, и сказала, что ее бабушка, да пребудет с ней мир, наивно считала кровавые апельсины гибридом помидора и померанца. Но услышать подобную чушь от отца, потратившего столько времени на изучение ботаники, она никак не ожидала.
Отец прикрыл глаза, и на губах у него появилась едва уловимая улыбка — такая же, как в тот день, когда его упорхнувшая душа вернулась в свое гнездо.
Глава третья
С уходом Риклина отец тоже выскользнул из дома. Во дворе он несколько раз воткнул в рыхлую землю нож, которым гость резал кровавый апельсин. Госпожа Адлер, все еще мывшая окна своей квартиры, оторвалась от работы, пригладила пальцами редкие, непричесанные волосы и спросила, не собирается ли отец открыть у нас во дворе питомник для выращивания ножей. Отец сдержал улыбку и, не поднимая глаз на страдающую базедовой болезнью соседку, ответил, что дочери раввина пристало знать, как возвращают в кошерное состояние молочный нож, которым случайно нарезали мясо.