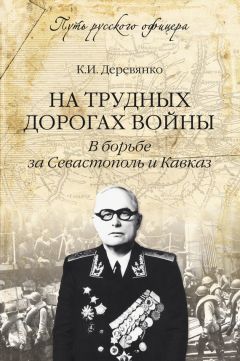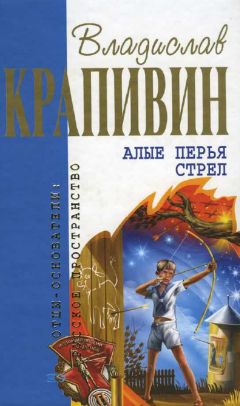Перья - Беэр Хаим
Мать, вопреки своему обыкновению, поджидала отца у порога. Когда он вошел, она тронула его за плечо и тихо сказала, что им нужно посоветоваться насчет меня, пока не упущено время и я еще не угодил в расставленную Ледером ловушку. Отец с самого лета чувствовал, что мать недовольна им, и теперь, не желая ее раздражать, пообещал, что вечером не останется на ежедневный урок Талмуда, который проводит рав Симха-Зисл, и вернется из синагоги домой сразу после молитвы.
Впервые за долгое время отец с матерью сели ужинать вместе. Дверь на кухню была закрыта неплотно, и до меня доносились их приглушенные голоса. Через полчаса мать распахнула дверь и сказала, чтобы я зашел в кухню и дождался, пока отец закончит послетрапезную молитву, потому что ему нужно со мной поговорить.
Сидевший у небольшого стола отец беззвучно шевелил губами, водя ножом по клеенке, украшенной изображениями сердец с голубым орнаментом. Мать, повязав фартук, отвернулась к раковине, но, прежде чем взяться за мытье посуды, она все же сказала, что чуть не поседела сегодня, когда я появился у портнихи Багиры в обществе этого прохвоста. И она не станет требовать у меня ответов на все терзающие ее вопросы лишь потому, что боится за свое слабое сердце.
— Ты первый в нашей семье оказался так падок на общение с мерзавцами, — продолжила мать, бросив взгляд через плечо на отца, который молча собирал крошки в кучку, глядя на стоявшую на подоконнике номинальную свечу. — Да-да, — сказала она, указав на свечу покрытой мыльной пеной рукой. — Расскажи своему дорогому сыну, что творил в Вене дер алтер бохур [96].
Отец сердито скрипнул зубами и, сделав вид, что не расслышал ее слов, спросил у меня, почему сын господина Рахлевского давно не заходит к нам. Он стал нахваливать моего одноклассника и назвал его образцовым мальчиком, отметив, что Хаим пишет замечательные стихи и рассказы, которые публикует «Давар лиладим» [97], и что его рисунки, вывешенные у входа в директорский кабинет, украшают вестибюль нашей школы. Мне было бы лучше дружить с Хаимом и с другими моими сверстниками, а не проводить время в обществе странного взрослого человека.
Уловка отца не заставила мать замолчать, и она сообщила, что первая жена отца, день смерти которой как раз сегодня, хорошо знала Ледера в его венский период. Мне было бы очень полезно услышать кое-что из того, что отец знает о нем. В этом случае, надеялась мать, я прозрел бы и не поддавался коварным ледеровым чарам.
— Перестань, зачем ворошить теперь эту пакость, — взмолился отец, разбросав ножом хлебные крошки, собранные им со всего стола. Он перешел на идиш, однако произнесенная им фраза оказалась понятной:
— Тому, что зарыто в землю, приличествует молчание.
Но мать было не остановить:
— Когда Ледер издохнет, его нужно будет похоронить задницей вверх, чтобы всем было ясно, чем зарабатывал себе на жизнь этот адуламитянин! [98] В Вене мерзавец не обошел стороной ни одного притона! И с чего это ты замазываешь теперь штукатуркой его похождения? Ведь это Ледер, никто другой, совратил Абале Ципера и утащил его в свои объятия от молодой жены, которая до сих пор не оправилась от позора.
— Хватит, хватит! — глухо сказал отец и закрыл лицо руками. — Ведь и ты, в конце концов, понимаешь, что ребенок должен относиться с почтением к своим учителям…
Ни он, ни мать не знали тогда, что Ледер сам рассказал мне кое-что о тех днях в нашу вторую встречу, состоявшуюся примерно за год до этого разговора.
Через неделю после нашей первой встречи у здания «Сансур» я снова увидел Ледера, теперь уже во дворе своей школы, где он стоял, поджидая меня. Я заметил его из окна еще во время урока Торы, на котором наша учительница госпожа Шланк рассказывала о совершавшихся с помощью птиц колдовских ухищрениях Балака [99]. Пышные рукава ее платья ходили волнами, когда она взмахивала руками с короткими, крепкими пальцами, в тот час таинственно напоминавшими когти хищной птицы. Учительница показывала нам, как Балак хватает зазевавшуюся в траве птицу, подбрасывает ее в воздух, а затем запускает в клетку, где перед ней совершается воскурение, заставляющее ее подать голос.
Закрытые тетради лежали перед нами на партах. Классную комнату заполнял громкий голос учительницы, с большим пафосом излагавшей события, случившиеся в тот день на горе Пеор [100]. Госпожа Шланк встала со своего места, стряхнула с юбки остатки мела и повела речь о том, как огорчился Балак, увидев, что выпущенная им птица распустила крылья над пустыней и безвозвратно улетела ввысь, преследуемая пламенем, которое касается ее крыл, но не может ее остановить.
Эту часть своего рассказа она сопроводила широким движением руки в сторону распахнутого окна, за которым виднелись высокое небо, промытое недавним дождем, и линия горизонта над Армон-ѓа-Нецивом [101] с клубящимся там, вдали, шлейфом серого дыма. Внизу среди луж расхаживал Ледер. Время от времени он останавливался и что-то чертил на мокрой земле кончиком своего зонта.
Учительница, вернувшаяся тем временем на свое место, сообщила, что Балак был хитрым злодеем и что он хорошо знал, чем соблазнить Бильама, который хоть и был величайшим пророком народов мира, оставался легкомысленным разгильдяем. Он отрастил себе чуб и сквернословил, а это, разумеется, помогло Балаку, умевшему заколдовывать птиц, увлечь и его своей безумной затеей. Но моего внимания не привлекали тогда ни рассказ учительницы, ни танцовщицы в лиловых кринолиновых юбках, которых рисовала на обложке своей тетрадки с надписью «Тора» моя соседка по парте Тхия Раппопорт. Едва дождавшись перемены, я выбежал вместе со всеми на залитый светом двор.
Ледер дожидался меня под гранатовым деревом. Прикрыв глаза ладонью от солнца, он пристально осматривал толпившихся во дворе учеников и, заметив меня, быстро подошел и воскликнул:
— Баркай! Баркай! [102]
Вслед за тем Ледер протянул мне руку и сказал, что он, разумеется, знает, что меня не зовут Баркай, но ведь всякому просвещенному человеку известно, что это слово состоит из тех же букв, что и «Эврика!» [103], знаменитое восклицание Архимеда, означающее по-гречески «Я нашел!» и произнесенное великим ученым в тот момент, когда ему открылось, что при погружении в жидкость тело теряет в своем весе столько же, сколько весит вытесненная им жидкость.
— Тебе многому еще нужно учиться, — заявил Ледер отеческим тоном, и тут же поинтересовался, кто у меня учительница.
— Госпожа Шланк.
— Цецилия Шланк? — переспросил Ледер.
— Нет, Цила Шланк, — поправил я его.
Ледер, удержавшись от более смачного ругательства, сказал, что ее девичья фамилия Шланк точно выражает суть ее семейства, в котором все как один — сущие змеи и аспиды [104], но свое имя Цецилия она сменила на Цилу, выйдя в Вене замуж за раввина Ципера. Брак их, однако, распался через полтора года, поскольку она, как выразился Ледер, «не была из самых прилежных учеников основоположника движения муса́р рабби Исраэля Салантера» [105].
Положив руку мне на плечо, Ледер потихоньку отталкивал меня от тропы, ведущей к пруду Мамилы [106], и продолжал свой рассказ. Он встретил сладкую парочку в Вене в начале двадцатых годов. Абале Ципер, с которым Ледер был знаком со времен своего иерусалимского детства, прилежно занимался в раввинской школе, черпая премудрость Торы из уст раввина Хаюта, а Цецилия Шланк — лембергская мадам [107], как назвал ее Ледер, — тем временем кружила головы местным деятелям «Поалей Цион» [108] и повсюду таскалась за ними.