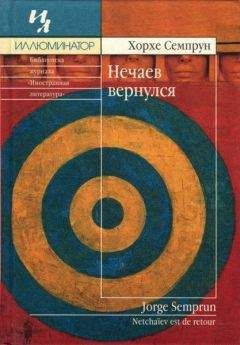Лола Елистратова - Бог ищет тебя
Меньшиков в Березове.
Куда ни посмотри – страшно. Ужасает молчание безграничной Невы. Да и с другой стороны – такое, что можно и совсем растеряться: Кунсткамера, двухголовые, трехрукие бескровные монстры полощутся в стеклянных банках со спиртом, настоянным на черном перце, паукообразные конечности, надутые подкрашенным воском… И ветер, морок, туман, и Нева мечется, как больной в своей постели беспокойной.
Но нет, ни за что. Я же сказала: ни за что. Эти эффектные переливы, болезненная звукопись отступили перед увеличением плотности оркестровой массы. Пусть от мелодии временами веет отчаянием, пусть монотонно возрастает навязчивая тема, с точностью метронома повторяющая себя, но не способная вырваться на волю, – пусть, но в этом нарастании звучности слышится могучее оптимистическое начало, заглушающее переливы и мерцание зимних красок.
– Я буду пить вино, – заявила Лиза.
Андрей удивился, но заказал.
В ресторане было тепло, уютно: красные кирпичные стены, плющ на перегородках. Музыка, шум и запах вкусной еды. В тот вечер Лизе нравилось все: и еда, и вино, и мужчина, сидящий напротив, – только почему он так смотрит на нее?
Наверно, сейчас начнет жалеть.
Ах, Лизавета Ивановна, пренесчастное создание…
Нет, больше она этого не хочет. Она уже увидела себя царевной, что смотрит янтарными глазами из-под блистающих вежд, той, что за руку царя взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала.
Уложила отдыхать на парчовую кровать?
Подожди, подожди, Лиза, торопишься. Просто ты опять выпила вина, и от этого все мешается в голове. И потом – зачем он так смотрит? И зачем на нем этот галстук?
– Сними, пожалуйста, галстук, – сказала Лиза. – Он сюда совершенно не подходит.
Андрей спорить не стал. Сдернул с шеи галстук и расстегнул верхнюю пуговицу на голубой рубашке: черноглазый, смуглый, в вороте рубашки видны черные волоски на груди. Он, наверно, теплый, вот бы взять и засунуть холодную руку ему за шиворот, и положить голову ему на плечо, и чтобы
потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Додон.
А мир уже сдвинулся и поплыл, как вчера, во время прогулки по Мойке…
– Тебе идет эта рубашка, – проговорила она.
– Я так и знал, что тебе понравится, – ответил Андрей.
– Да?
Ни он, ни она не нашли что добавить. Музыка еще не достигла полного звучания, не раскрылась пока окончательно.
Словно пьеса, играемая одной левой рукой.
– Расскажи мне, как ты здесь жила.
– Я писала статью, – ответила Лиза.
Левая рука. Одна левая.
– И что ты нового придумала?
– Да зачем я буду рассказывать? Тебе все равно не интересно.
– Это мне-то? – возмутился Андрей. – Да я уже наизусть все знаю про ладово-гармоническую красочность старика Дебюсси.
Лиза невольно фыркнула.
– Я и сама не знаю, права ли я была, когда остановилась только на Дебюсси. Знаешь, меня в последние дни все мучает мысль об упущенных возможностях.
– О каких еще упущенных возможностях?
– Ну почему Дебюсси, а не Равель, например? Хоть он и не такой новатор, как Дебюсси, но его гармония психологически проще, классичнее, имеет ярко выраженную танцевальную основу. Впрочем, у них, конечно, много общего…
– Общая склонность к чувственной роскоши мягко-диссонирующих аккордов?
– Боже, – сказала Лиза, – тебе уже можно бросать машиностроение и переходить в Консерваторию.
– Ну что, не ожидала такого от своего варвара-мужа?
Она рассмеялась.
Пусть и левой рукой, но какое утонченное и острое звучание!
Музыка инстинктивная, эмоциональная.
– Скажи еще что-нибудь такое, – попросила она.
– Я только это выучил, – признался Андрей. – Вчера читал твои тетрадки.
– Какие тетрадки?
– Ну записи твои. Дома лежали, на столе.
В первый раз воспоминание о доме не вызвало у нее боли. Словно ее и не касалось, что в двух шагах, за стеной, в тщетной злобе плещутся финские волны и ходит-бродит по сумрачным этажам Кунсткамеры гигантский скелет Петровского гайдука, ищет свой исчезнувший череп… Это все не для Лизы, это больше не имеет к ней отношения. Лизина конструкция стала совсем простой: серия точных повторов темы в непрерывном крещендо, в изменяющейся инструментовке – улыбки, смешки. Наплевать на гайдука. Сами знаете, как это бывает: хоть бы и вся столица содрогнулась, а девица – хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Из ресторана пришлось возвращаться пешком: унылая набережная была темна и пустынна, ни одного такси.
Ни прохожих, ни машин. Ни души.
Дворцовый мост был весь залеплен густым туманом, как ватой. Впереди не было видно ни Эрмитажа, ни даже очертаний другого берега.
– А погода-то, наверное, нелетная, – сказал Андрей словно невзначай. – Даже и не знаю, как мне вернуться в Москву.
– На поезде, – ответила Лиза.
Он вздохнул:
– Иди осторожно, а то не видно ни черта, – и рассчитано решительным жестом взял ее за локоть.
Она не отняла руки. Минуту шли молча.
– А вдруг его сейчас разведут, этот мост? – неожиданно спросила Лиза. – Это в котором часу происходит?
– Не помню. Часа в два ночи.
– Я никогда этого не видела.
– А вот мы приедем сюда с тобой летом, на белые ночи, и обязательно посмотрим, как разводят мосты, – сказал Андрей как нечто само собой разумеющееся и сжал ее локоть.
Она не ответила.
2
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ
– Можно я поднимусь с тобой? – спросил Андрей у лифта.
– Зачем? – Лиза сразу сжалась.
Лучше бы он шел рядом с ней молча, ни о чем не спрашивая. А так…
– Ну пожалуйста, – сказал он. – В конце концов, это просто глупо. Не сидеть же мне одному в холле, дожидаясь самолета.
Лиза помолчала.
– Хорошо, – ответила она, не глядя на него. – Пошли.
В номере была разобранная постель, букет роз и ангелы в окне. Посмотрев на беспорядок, Лиза почему-то подумала, что о разводе они так и не поговорили.
– Когда будем подавать документы? – спросила она.
– Какие документы?
– В ЗАГС.
– Но мы уже ходили с тобой в ЗАГС.
– Я спрашиваю тебя серьезно, – вспылила Лиза. – Когда пойдем подавать на развод?
– Лизонька, – сказал Андрей тихо, – неужели ты так и не передумала?
– Нет.
– Лизонька, ну прости меня.
Она молчала.
В это время за окошком неожиданно вспыхнул фейерверк – такие иногда устраивали поздно вечером на Исаакиевской площади. Голубые и красные огни с шумом полетели во все стороны, заполняя комнату призрачным светом. Веселые яркие брызги до неузнаваемости раскрасили слезливый фасад собора.
– Что это? – удивился Андрей, подходя к окну.
– Фейерверк.
Он резко обернулся к ней:
– Лиза…
– Не надо, – сказала она и попятилась.
– Хорошо, – сдался он. – Делай как хочешь. Можно, я хотя бы сниму тебя на память? Я даже камеру привез, – и он достал из кармана куртки маленькую цифровую камеру. – Прошу тебя. Ну что тебе стоит…
Она задумалась.
Не знала, что ему ответить.
Согласиться? И что? Чем кончится эта съемка? А хочет ли она с ним разводиться? Нет, на самом деле? И вообще, чего она хочет?
– Пожалуйста, – повторил он.
Вот пристал.
В раздумье она выставила вперед плечо: одно, потом другое.
– Тогда уж я станцую, – сказала она.
– Станцуешь? – опешил Андрей.
– Да. Я теперь танцую восточные танцы.
– Ну давай…
Лиза оглядела номер в поисках сокровищ, которые она накупила при выходе из клуба. Вон он, большой пакет – валяется на полу под телевизором. Она бросила его туда, когда зашла в номер и увидела корзину с цветами.
Лиза достала из пакета диск и вставила в маленький проигрыватель.
– Хабиби… я хабиби… – немедленно полилось из колонок.
Андрей не верил своим ушам. Какая-то хабиби – и это у его жены, идущей по жизни под томную звукопись Дебюсси и Равеля.
Лиза подхватила с пола пакет и направилась в ванную.
– Ты куда? – спросил он.
– Переодеваться.
Андрей из осторожности решил оставить это без комментариев.
Через несколько минут она появилась в дверном проеме: прозрачная шифоновая юбка с разрезом до бедра, сверкающий топ из блесток, звонкая бахрома и мониста, мониста… Встала, улыбнулась, округлила руки. Поиграла пальцами.
Андрей включил камеру.
Хабиби, хабиби… Три шажка в диагональ, три – в другую – томно, вкрадчиво, словно кошка, которая охотится за воробьем. Прокрутилась – спина как струнка, голова поднята, третий глаз неподвижен – остановилась, приставила ножку, согнула в колене, пококетничала плечиком: я стесняюсь. Больше нет ни шагов на снегу, ни даже металлического крещендо «Болеро» – только восточная мелодия, густая и вязкая, как рахат-лукум, пропитанный розовым маслом.
«Нижняя волна»: бедра выгибаются, удар пахом вперед.