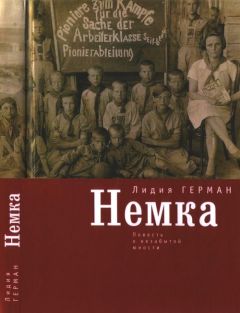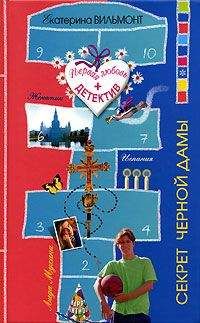Йоргос Сеферис - Шесть ночей на Акрополе
— «Лес, которого ты жаждал»,[68] — сказал он.
— Что это?
— Из книги, которая рядом с тобой.
— Да, действительно. Предпочитаю то, что говорит орел: «Я должен увеличиваться, а ты — уменьшаться».[69]
— Это из «Обломков».
Она вытянула руки и напряглась всем телом.
— Не важно. Прочитанные книги путаются внутри нас. Иногда мне в голову приходит мысль сделать одну-единственную книгу из всех книг, которые я прочла: вырвать из них страницы, изрезать ножницами на мелкие кусочки, бросить их в корзину, перемешать хорошенько, а затем вынимать один за другим и переписывать.
— Только в этом случае в твоей книге не будет тебя самой, — сказал Стратис.
— Как это не будет? Ведь для этих несчастных кусочков я сыграю роль слепой судьбы. Но если меня там не будет, тем лучше: я буду в другом месте, буду заниматься любовью. А когда я занимаюсь любовью, я пребываю в любви, а не в книгах.
Она смотрела в потолок. Голос ее, казалось, медленно двигался, воспроизводя читаемые наверху образы.
Стратис исчез вдали.
— А где буду я? — спросил он по старой привычке.
— Ты — противоположность. Допустим, будешь заниматься любовью с Лалой…
— Почему с Лалой?…
— Потому что она могла бы дать тебе значительно больше, чем я…
Стратис ласкал ее упругую грудь, но она отстранила его руку и сказала:
— …Итак, если бы ты занимался любовью с Лалой, то снова пребывал бы в книге. И если бы тебе удалось написать ее, ты попытался бы настолько наполнить ее собой, что все другие ушли бы и ты остался бы один. В конце концов ты станешь мелкими кусочками, которые будут плавать в моей книге, и вполне справедливо понесешь такое наказание.
Стратис слушал ее. Возможно, даже более серьезно, чем следовало бы. Взгляд ее спустился с потолка и остановился на цветах, которые лежали забытые на скамье.
— Они хотят пить, эти гвоздики.
Она вскочила на ноги, вышла и вернулась с кувшином воды. Стратис смотрел на ее пальцы, изогнувшиеся на поверхности сосуда, и думал, что, может быть, не дал ничего этому телу. Оно показалось ему чужим, словно рельеф, а вдали за ним было неизъяснимо призывавшее минувшее. Она наклонилась, и ее талия изогнулась, словно ветка. На бедре у нее была ямочка. От шеи шла линия, проходившая между лопатками и легко терявшаяся в тени. Соски казались вишневыми клыками. Значительно позже он подумал, что не его глаза различали все это, но кровь приносила все это к его глазам. Он снова почувствовал благоухание лимонного цвета. «Но оно ведь было здесь все это время. А я где был?» Теперь пальцы ее играли гвоздиками, прильнувшими к кувшину. «Тот же цвет, что у кувшина в Коккинарасе. И Лала, говорившая о грешниках…»
— Саломея… Кто, Саломея?…
— У какой женщины я взяла тебя? — спросила она медленно, не оборачиваясь.
— Ни у какой. Ты — первая моя женщина с тех пор, как я возвратился в Грецию. Первая гречанка.
— Первая… А ты ведь даже не сказал мне, что я красивая.
Он поднялся, взял ее за плечи и повернул к себе. Она отпрянула назад и словно задумалась.
— Но ведь ты говорил, что прошло уже два года с тех пор, как ты вернулся из-за границы. Все это время что ты делал?
Колокол время от времени бросал на камень пару медяков. В памяти Стратиса внезапно возник раненый юноша, которого он видел в детстве в своем селе, когда его поднимали из лужи крови. «Может быть, и это все время было здесь…» Волна ритмов проникла ему в душу. «Странно, впервые за столько времени — музыка…». Он почувствовал, как весна неудержимо влечет его наружу.
— Я любил, — ответил он.
Раненый юноша был первым в ловле неводом. Ноги его, пробегая по воде, обретали сияющее трепыхание. И внезапный круг сети словно распахивал свои широкие объятия. Темные объятия. Рыба сверкала там внутри, такая новая. Он посмотрел на стену маленькой комнаты: кое-где она облупилась. Он увидел себя запертым в этой могиле. И сказал ей почти резко:
— Оденься. Хочу выйти с тобой.
Она покорно склонилась и стала собирать разбросанные по полу одежды — белую комбинацию, лиловое платье. Она прикоснулась к этому и вытянулась напротив. Затем она провела ладонями по бокам и преподнесла ему грудь.
— А их ты больше не хочешь? Я называю их волчатами.
— Так я смотрел на яблоко, которое украл в детстве, — сказал он.
Он позволил ее рукам опуститься.
— Может быть, я не нравлюсь…
— Знаешь, — сказал он, — вначале, когда я только увидел тебя, ты напоминала мне Нижинского.[70] Так я называл тебя наедине с собой.
Она поцеловала его. Только теперь он познал ее губы. Ее руки обнимали его всюду, словно полуденная волна. Затем они дали ему погрузиться в теплое лоно моря, глубоко, до самого дна, на котором поблескивал белым светом измятый образ заплаканной девушки среди водорослей.
— Прогони всех, — хрипло простонала она и отдалась ему.
Значительно позже Стратис спросил:
— Значит, Лала нравится тебе так сильно?
— Не хочу скрывать от тебя — ответила она. — Только это не значит, что от тебя я добиваюсь того же. Когда-то я полюбила. Не стоило. Затем я вышла замуж. Жуткая пустыня. Тогда я познакомилась с женщиной. Она скрывала в себе дьявола. Мало-помалу она обучила меня. В конце концов, мне не было неприятно. По крайней мере, это было спасение от одиночества…
Она задумалась.
— …Возможно, это сделало меня женщиной больше, чем нужно. Теперь я хочу быть твоей…
Стратис хотел было заговорить, но она зажала ему рот ладонью:
— …Твоей, насколько могу. А насколько могу, не знаю. Возможно, нужно было это попробовать. Однако мне кажется, если мы расстанемся надолго, я, может быть, снова вернусь к этому. Видишь, какое упрямое у меня тело: не дает мне сил любить издали, как ты. В сущности, возможно, я должна быть благодарна этой дьявольской женщине, потому что мужчины, если только судьбе не угодно преподнести нам редчайший дар, либо очень глупо сентиментальны, либо похабно грубы…
Она замолчала и снова посмотрела в потолок.
— …Да, если не смогу по-другому, если не смогу по-другому… уйду к Лале, хотя…
— Хотя? — спросил Стратис.
— …Хотя, — сказала Саломея, — несмотря на всю ее силу, у нее совершенно нет мальчишеской стихии… Так странно…
Она говорила с необычайной простотой, напрямик. Стратис обнял ее. Она вскочила на ноги.
— Вставай! — сказала она. — Выйдем. Прошло уже столько времени, как ты попросил об этом.
Они пошли к холму Филопаппа.[71] У церкви Святого Димитрия народ толпился вокруг Святой плащаницы. На озаренных свечами лицах можно было прочесть все морщины. Вдали белели, словно крупная галька, мраморы Акрополя. Стратис пытался согласовать это время, которое текло с протяжными псалмами и угасало над маленькими огоньками, с тем другим временем, которое, казалось, неподвижно взирало на него из крепости, смежив веки мраморов, словно из глубины некоего безмятежного моря.
Он повернулся к стоявшей рядом Саломее. Лицо ее показалось ему лишенным всякого выражения. Одежды, скрывавшие ее тело поглощали его, словно колодец Инстинктивно желая сохранить Саломею, он схватил ее за руку выше локтя. Она улыбнулась ему. Такой далекой была ее улыбка. Он почувствовал себя грудой осколков. «…Как найти соответствие между всем этим?»
Народ вздрогнул: вынесли Святую плащаницу.
Священники и хоругви. Мертвый Бог с брызгами крови на боку. Саломея перекрестилась. Этими вот пальцами она обнажила свое тело. Так быстро. Далеко позади, у причала близ селения, три человека поднимали юношу, который испускал дух, в залитой кровью рубахе. К берегу приближалась лодка, и весла ее разбивали воду, как некогда его ноги. Он увидел совершенно нагое тело Саломеи среди рук, державших свечи, и свечи, сделанные из плоти ее: множество пальцев, мужских и женских, мяли его. Множество пальцев до самого погребального ложа, которое удалялось к Одеону.[72] Волна ритмов, нахлынувшая на него в тесной комнате, появилась снова. Он ощутил бурление могучей радости. Музыка начертала два больших круга и оставила его в безысходном одиночестве.
Он проводил ее до двери. По дороге они молчали. Только прощаясь, он сказал:
— Сегодня мы согрешили.
— Если то, что ты желаешь сделать, чего-то стоит, боюсь, что тебе придется пройти через страшные мучения. А я… уже очень давно сбилась с пути… Спокойной ночи, Стратис.
И закрыла дверь.
СТРАТИС:
Пятница, апрель
С той пятницы у нее дома она исчезла. Вот уже две недели я заблудился, словно в том сумрачном лесу[73] в Англии, где пахло подвалом, среди густых корней, вбиравших запах гнили. Моя комната была освещена газовой лампой. Возвратившись, я прочел при этом бледном свете в измятой газете: «A sunny day we shall go…».[74] Одиночество было таким, что его можно было резать ножом, как туман.