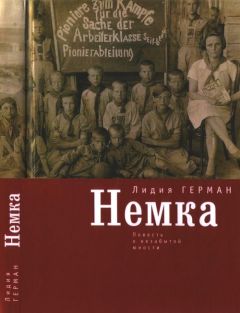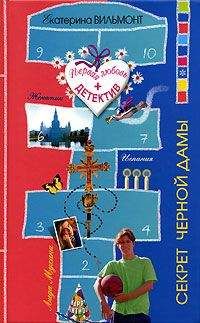Йоргос Сеферис - Шесть ночей на Акрополе
Вторник
«Также и спящих, — говорит Гераклит, — я считаю тружениками и соучастниками того, что происходит в мире».[44] Я подчеркиваю это.
Мне кажется, если бы дух достиг определенной степени неподвижности, внешние вещи пришли бы в движение.
Среда
Я поднялся на Ликабетт:[45] ощущение скалы иногда помогает. Один солдат стоял на посту, другой мыл ноги на камне — бледные ноги. Раздавались голоса около трех десятков детей, которых привела немка. Церковь возвышалась на вершине всего этого белая и безразличная, словно старец посреди большой кровати, на которой сидят, спят, ласкают друг друга множество безразличных людей, — он повернулся к ним спиной и устремился к смерти.
Вдали — стоящий на якоре Акрополь, готовый к отплытию.
Стратис добрался до Заппиона,[46] до конца большой площади, учащенно дыша. Все остальные уже собрались, готовые отправиться на Акрополь. В тот миг, когда он протянул руку Саломее, все огни вдруг сразу погасли. Луна упала, словно невод из фиолетовой стали, и покрыла их всех: три парочки застыли с разинутыми ртами; два споривших торговца пришли к соглашению; глаза Лалы устремились к небу и засияли; виолончель на сцене захлебнулась. Волшебство закончилось грохотом надутого бумажного пакета, который взорвал какой-то приставала. Огни зажглись. Тучная дама, сидевшая с разведенными в стороны коленями, снова принялась щелкать фисташки, словно сопровождая смену сцены игрой на ксилофоне.
— Прикосновения, вызывающие короткое замыкание, — сказала Сфинга. — Знаменательное начало!
Она огляделась. Никакой реакции не последовало: шутка не удалась.
— Вам нравится Гиметт?[47] — угрожающе спросила она Стратиса.
— Мне не нравится говорить, что мне нравится и что нет, госпожа Сфинга.
— Когда-то ромеи были невероятно развязны.
— «Эллада значит — горе!»[48] — пропел Нондас.
— «Moi, cela m’est égal parce que j’écris Paludes»,[49] — засмеялся Николас.
— Слава Богу! Так можно надеяться, что сегодня ты не доведешь нас до головной боли своим витийством, — сказала Сфинга.
— Я витийствую только одну ночь в месяц — когда луна в ущербе: не знаю, что тогда со мной происходит. Теперь, когда вам это известно, можете без особого труда избегать меня.
Слева, среди деревьев, во тьме, ветер вдруг зазвенел, словно систры:[50] платье Саломеи заволновалось. Стратис подошел к ней и сказал:
— Не знаю, как созреваете Вы, но Сфинга созревает кисло.
Они поднялись к крепости.[51]
Перед ними, на длинных мраморных ступенях Пропилей, появились очень тонкий и очень высокий господин в смокинге и носатая дама с плоской грудью в вечернем туалете и с тюрбаном на голове. Это были иностранцы. Их сопровождал светский туземец, весь в изгибах и пыхтящий огромной сигарой, неприличной в этот час. Он напыщенно восклицал:
— C’est l'Acropole![52]
Услыхав это, Николас спросил:
— Ты знаешь, что такое «l’Acropole»?
— Что? — спросил Калликлис.
— «Я суща, суща и зряща меня, зряща меня, чтобы быть зримой…» и так далее.[53]
— Бред сивой кобылы!
— Как тебе угодно. Только не говори этого госпоже Сфинге, потому она за такое сердится.
— Естественно, — отрешенно ответил Стратис.
Достигнув вершины лестницы, они разошлись. Саломея направилась к Эрехтейону, остальные — к храму Ники. Стратис остановился в нерешительности, затем последовал за Саломеей.
Внизу, на северной стороне, у подножья скалы сгрудились домики, напоминавшие стаю кубических черепах, цвета вороньего крыла или серебряные. Саломея смотрела на Кариатид.
— Кто эти девушки — женщины или колонны? — спросила она. — Одна нога, напряженная, указывает, что они несут тяжесть, а другая?…
— Странно, что тяжесть, которую они поднимают, чувствуется у них в груди, — сказал Стратис.
— Верно. Такой казалась мне когда-то Лала…
Она помолчала, затем добавила:
— Странная была перемена освещения внизу, в Заппионе.
— Я подумал, что на Вас опустилась обнажающая рука, — сказал Стратис. — Теперь это не так.
— Но это должно быть так, — ответила она.
Стратис взял ее за руку.
— Сегодня утром, — сказал он, — сегодня утром, на улице Эрму я видел девочку, которой не было еще и десяти лет. Она кричала другой девочке, которая бежала позади: «Давай, фея-коротышка!». Вот так мне хотелось бы звать Вас.
— Пошли посмотрим, что делают другие, — сказала она и устремилась вперед.
Направление им указывал издали голос Калликлиса, который декламировал:
Ее я расстелю ковром,
Подам тебе ее с пюре,
Не то — не быть мне Ярере![54]
— Молодец, Клис! — сказала Сфинга. — Это надо бы положить на музыку и петь вместо «Грозного».[55]
Калликлис протянул руку и провел ладонью по ее позвоночнику.
— О, женская спина, бочка Данаид! — сказал он с лиризмом.
Сфинга с наслаждением повела плечами. Лала засмеялась и сделала несколько шагов.
— Бедняжка! — прошептала Сфинга. — Славная девушка, но дура.
— Я хочу, — сказал Нондас, — попросить Николаса прочесть нам стихи, которые он сочинил в Кефисии, в автобусе.
— Лучше прочту их вам при следующем ущербе луны, — сказал Николас.
— Пожалуйста, Николас, — попросила Сфинга.
— Хорошо, — согласился Николас. — Это, естественно, резонанс.
— Что значит «резонанс»? — спросил Калликлис.
— Что-то наподобие пастиччио.[56]
И он прочел, как читают газету:
Кифисья, Кифиса!
На автобус я сажусь.
Прощай, горе! Прощай, грусть!
Пыль уходит в небеса.
Удаляюсь с жаром-пылом —
Есть же в мире чудеса!
Где ж та дева, что открыла
Мне на этот мир глаза?[57]
— Браво! Превосходно! — воскликнула Саломея.
— Ты все испортила. А жаль — такие рифмы! — сказал Калликлис.
— Если бы Вы не враждовали со мной, я посвятил бы это Вам, госпожа Сфинга, — сказал Николас. — Вы обратили внимание, как это отображает греческую среду?
— Греческая среда меня не интересует, оставь ее себе. Вещи, которыми я восхищаюсь, — не местные, — сказала Сфинга и, повернувшись к Калликлису, добавила: — В автобусах, где наслаждается красноречивый господин Николас, я делаю наблюдения.
— Ну, и каков же вывод? — спросил Нондас.
— Вывод? Что все корчат из себя шутов гороховых.
— О! — воскликнул Калликлис. — Очень прошу тебя, Сфинга, не начинай снова, пожалуйста. Ну и пусть корчат из себя шутов гороховых. Завтра пусть корчат из себя хоть орангутангов, если тебе угодно, но сегодня… При этой луне… — он взглянул на Стратиса. — Сегодня мне хочется слушать стихи. Прочти что-нибудь из своих.
— Я не пишу стихов, — испуганно ответил Стратис.
— Да! Да! Прочти! — закричали все, кроме Сфинги.
— Теперь я комментирую «Одиссею».
— Прочти что-нибудь из этого, — сказал Нондас.
— Но комментарии — не стихи.
— Что-нибудь из этого! Из этого! — закричали все, кроме Сфинги.
— Ну вот, — сказал Стратис, чтобы выйти из неловкого положения, — комментарий к месту, где Гомер называет остров Калипсо «пупом моря» — aphalos tes thalasses.
— Я думала, что вкус у Гомера был лучше, — сказала Сфинга.
— На острове волнообъятом, / Пупе широкого моря…[58] — тихо прочел Стратис.
— A! Omphalos! Это совсем другое дело, — сказала Сфинга.
— Конечно, — ответил Стратис. — А вот мой комментарий. Повторяю, что речь идет о замечаниях сугубо личных.
Остров сладкий, даже слишком,
Где двойные берега,
Словно женская подмышка
И отверстие пупка.
Калипсо на нем, бедняжка,
Век ждала на берегу
И качалась, словно пташка
На надломленном суку.
Пуп морей необозримых
Был открыт во всей красе,
Но тебя тянуло к дыму,
Хитроумный Одиссей.
Наступило холодное молчание.
— Ледяная Сфинга, — пробормотал Николас.
— Я ведь предупреждал, — сказал Стратис с облегчением.
Калликлис пробормотал:
— М-да! Все это прекрасно, Стратис, только конец получился дохлый. Неужели ты не нашел ничего более подходящего? Например, «дыма змеескользящего»?
— Согласен, — сказал Стратис, — однако мне не нравится обыкновение, чтобы конец был делу венец.
— А я бы написала: «ты трубку у нее просил», — сказала Сфинга.
— И об этом я тоже думал, но испугался, как бы не спутали с корабельной трубой, — сказал Стратис.