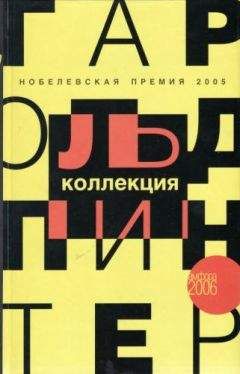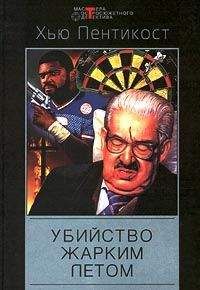Гарольд Пинтер - Карлики
– Нет, – сказал Лен. – Спроси кого-нибудь другого. Я тебе ничего не смогу сказать. Это не обсуждается. Я о нем говорить не могу.
– А что так?
Лен пожал плечами и открыл дверцу буфета. Он снял с полки бутылку вина, вытащил пробку и, сунув горлышко под нос, принюхался, потом поставил на стол бутылку и два бокала. Он мрачно посмотрел на бутылку, поднял ее и прочел этикетку. Потом передал ее Питу. Пит тоже принюхался и вернул бутылку. Лен снял очки, задержал дыхание и снова понюхал вино. Он плеснул вино в бокал, поднял его к самому носу посмотрел в него и сделал маленький глоток. Задержав вино во рту, он начал ходить по комнате, то закатывая глаза, то зажмуриваясь. Он стал полоскать вином горло.
– Бах? – повторил он, сплевывая вино в бокал. – С ним все просто. Самое главное в Бахе… самое главное в Бахе…
Он поднял бутылку, нахмурился и поставил ее обратно в буфет, закрыв дверцу.
– Самое главное в Бахе, это… дай собраться с мыслями… это…
Он сел на угол стола, но тотчас же вскочил, поднял бокал и стал хлопать себя по брюкам, пытаясь стряхнуть капли пролитого вина.
– Эх! Эх! Эх!
– Взял бы тряпку.
– Эх!
– Повернись-ка, – сказал Пит. – Да ничего тут нет.
– Я чувствую, что они намокли.
– Ты вроде говорил про Баха.
Лен расстегнул брюки и снял их. Он схватил их за края штанин и стал энергично встряхивать. Затем осмотрел пятно, снова надел их и застегнул.
– Тридцать девять и шесть лет назад.
– Ты бы еще на голову встал, – сказал Пит. – Господи помилуй, расскажешь ты мне или нет, чего ты помешался на этом чертовом Бахе?
– Бах? Это же элементарно. Самое главное в Бахе то, что он воспринимал свою музыку как эманацию, некое излучение, не исходящее от него, а проходящее сквозь него. Из точки А через Баха в точку С. Больше и говорить нечего.
Он сел в кресло и откинулся на спинку.
– Взять Бетховена.
– Что ты имеешь в виду?
– Что ты имеешь в виду? – повторил Лен. – Бетховен всегда Бетховен. А Бах как холод или жар, как вода или огонь. Он Бах, но и не Бах. Его и сравнить-то не с кем.
– Погоди минутку…
– Видишь ли, – сказал Лен, щупая брюки под ягодицами, – когда я слушаю музыку Баха, я ощущаю, что такое осознание. Не осознание того, что я слушаю Баха, а просто осознание. Нет ни кожи, ни дерева, ни плоти, ни костей, ни оргазма, ни возвращения сознания. Нет жизни, но нет и смерти. Нет действия как такового. Осознание мира сводится к семи ветрам, или к семидесяти семи конечно, в зависимости от того, какой ты и как воспринимаешь мир.
– Так вот прямо?
– Можешь даже не спрашивать. Это осознание мира как бездействия возникает само по себе. И нечего напрягаться. Можно было бы напрягаться, если бы Бах был кем-нибудь другим. Тогда ты мог бы сказать: да, я слушаю это. Я. Но Бах и знать тебя не желает. Бесполезно пытаться постичь его через свое «я». Бесполезно.
– Ну да.
– Бах – композитор для слабых. В то же время он и для сильных, вот почему его музыка потрясает всех тех, кто не слабый и не сильный.
– Bay!
– Бах, – сказал Лен, вставая и подходя к стене, – не имеет ничего общего с такими темами, как убийство, природа, массовая резня, землетрясение, чума, бунт, голод и все такое. Ему нет дела до серьезных вещей как таковых. Вот почему для него всегда найдется место. Веришь ты или нет, но Баха можно положить в задний карман брюк. Просто взять и положить в задний карман. Но если ты кладешь его в задний карман, ты должен понимать, что его ты в задний карман не кладешь.
– Ага.
– Знаешь, Пит, иногда мне говорят, – сказал Лен, садясь опять на угол стола, – что по сравнению с ласковой и горячей женщиной все остальное меркнет и кажется незначительным. Это абсолютно правильно. Даже Шекспир со временем сводится к набору цитат. Но Бах для меня никогда не станет несколькими любимыми нотами.
Наверное, со мной так происходит потому, что я никому не доверяю. Наверное, я просто чувствую и улавливаю тот момент, когда все, что у меня есть, начинает принадлежать и моей женщине тоже, и я готов забыть об этом, не обращать на это внимания. Но моей незыблемой собственностью остается он, его у меня не забрать.
– Понятно.
– Есть еще один, – сказал Лен, вставая, – чисто технический момент насчет Баха: это его невероятная настойчивость и упорство, и его потрясающее умение подыскивать оправдание для этого упорства. Бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу бу. бу тиллеллеллеллеллееллеелалала-лалалала бу бу бу и так далее. Можешь подключаться на любом из этих тиллеллела, но все предыдущие бу бу бу все равно будут в них угадываться. Ты их обязательно услышишь. Вот, собственно, и все, что я могу сказать о Бахе. Мы имеем то, что имеем. Не нужно было меня спрашивать.
– Ладно, – сказал Пит. – По крайней мере кое-что ты мне объяснил.
Они стояли на ковре, держа руки в карманах.
– Как насчет выпить какао?
– Какао?
– Да, – сказал Пит, – поднимем тост.
– Давай. Согласен, возражений нет.
Они вышли из комнаты и спустились в буфетную, кот следовал за ними. Сквозь низкое окно полуподвального помещения светила луна, лучи которой отражались в развешанной по стенам металлической посуде. Лен включил свет и поставил чайник. Потом принес жестяную банку с какао.
– Да, пожалуй, кое в чем ты прав.
– Это невозможно.
– Я выгляжу как покойник, – сказал Пит, посмотрев в мутное пятнистое зеркало над раковиной.
– Это ты точно подметил.
– Знаешь, тут на днях сосед остановил меня на улице и сказал, что я самый красивый человек, какого он только видел.
– И что ты на это ответил?
– А что я мог ответить?
– У меня есть пара рогаликов, – сказал Лен. Пит сел за стол и постучал костяшками пальцев по столешнице.
– Очень крепкий стол.
– Я говорю, у меня есть несколько рогаликов.
– Нет, спасибо. Давно у тебя этот стол?
– Это семейная реликвия, в наследство досталась.
– Ясно, – сказал Пит, откидываясь на спинку стула. – Мне всегда хотелось иметь хороший стол и хороший стул. Солидные вещи. Крепкие, надежно сделанные, чтобы поднять трудно было. Я бы взял их с собой на корабль. Поплыл бы вниз по реке. Есть такие плавучие дома. Сиди себе в каюте и смотри на воду.
– А кто рулить будет?
– Можно просто припарковаться. То есть встать на якорь. Вокруг ни души.
– И куда бы ты поплыл?
– Поплыл? – спросил Пит. – Никуда плыть не надо.
– Держи какао.
Они сделали по глотку.
– Как Марк?
– Отлично, – пожал плечами Лен.
– Что он может сказать в свою защиту?
– Говорит, что не будет больше плеваться. Вчера вечером пообещал.
– Рад слышать это.
– Рад, что могу тебе это сообщить.
– И что ему так нравится плеваться?
– Ну нравится ему иногда смачно плюнуть.
– Да, но интересно, на что он плевал или плевать хотел на этот раз? – спросил Пит.
– На моего аудитора.
– Это еще кто?
– Христос. Иисус Христос.
– Что, – сказал Пит, приподнявшись в кресле, – он всерьез вознамерился обхаркать Иисуса Христа?
– Не совсем так. Но иногда, мне кажется, он просто не может удержаться, чтобы в кого-нибудь не плюнуть.
– Ты хоть сам-то понял, что мелешь?
– Кстати, – сказал Лен, – ты сам ему сказал, что я стал почитывать Новый Завет.
– О! И он что, на это тоже плевал?
– Я же тебе сказал, он пообещал, что не будет больше плеваться.
– Как это великодушно с его стороны.
– Хотя кто его знает. У него ведь все под настроение, заранее никогда не угадаешь.
Пит засунул руки в карманы и рассмеялся.
– Ты говоришь, как Джо Доукс. У него, видите ли, может быть настроение, когда ему захочется наплевать на Иисуса Христа. Обхохочешься. Ну давай, продолжай, мне даже интересно. Выкладывай. Может, расскажешь, что может вызвать у него приступ наплевательского настроения?
– Ты же мне ногти с корнем вырываешь, один за другим.
– Я просто потихоньку тебя опускаю. Давай-давай.
– Ладно. Я думаю, у него на все один ответ, вот и все. Если его у него и нет, я думаю, что я думаю, что он у него есть, и если бы я даже не думал, есть он у него или его у него нет, – если ты еще не сбился с мысли, – то могу тебя заверить, что у человека с таким именем ответ обязательно найдется.
– У человека с таким именем найдется ответ! Ты на своего кота посмотри, он от твоей болтовни под стол заполз. Ты что, каждый вечер так его изводишь?
– Да ладно, – сказал Лен. – Ты явно хотел мне что-то сказать. Почему же не говоришь?
– Нет, – сказал Пит.
Он взял чашку и сделал хороший глоток.
– Нет, – улыбнулся он, – я вовсе не собирался тебе ничего говорить.
– Правда? – нахмурился Лен.
Он посмотрел на потолок, покачал головой, а затем, явно что-то вспомнив, захихикал.
– Ну хорошо, было дело. Сказал он кое-что такое, что ты наверняка оценишь.
– Ну и что он выдал?
– Он говорил про декана Свифта, понимаешь ли, и вдруг заявил, что перестал жрать собственное дерьмо и решил отдать все свои деньги на содержание сумасшедших домов. Ты давно Пита видел? Вот просто так. Прямо так взял и сказал. Что ты об этом. Думаешь?