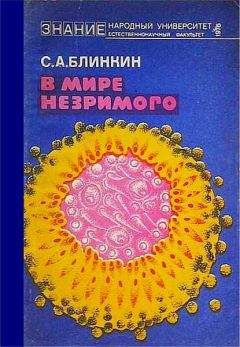Ахат Мушинский - Шейх и звездочет
— Возможно, возможно, — произнес он, отодвигая тарелку. — Возможно, что-то тут и передано, однако Юлька-то на себя мало похожа. Не скажи, что это она, и не узнаешь.
— Художник, как видит, так и рисует, — возразил Шаих. — И у некоторых великих художников люди на себя бывают не похожи.
— Сомневаюсь, чтобы ты заказал кому-нибудь из них свой портрет.
— Ох, Саша, — вздохнула Роза Киямовна. — Всегда ты все критикуешь.
— Не критикую, а полемизирую. Дедушкины портреты больше друг на друга похожи, чем на тех, кого они изображают.
— Своя творческая манера! — заключила Юлька.
— Ма-не-ра… Вот когда он в сорок первом саблей рисовал, это, я понимаю, манера была.
Киям-абы дернулся шеей, поставил чашку на блюдце.
— Так я ведь махал саблей вот ради всего этого, я всю жизнь мечтал об этом, а если не смог как следует этому научиться, так меня жизнь с мал-мала другому учила. Она всегда ломала все мои планы.
Реакция деда удивила Пичугу. Ему всегда все дозволялось, и не такое отмачивал, а на сей раз?.. Но Пичуга не смутился.
— Я не то имел в виду. Да уж сколько говорил, что отношусь к искусству, так это… Любое оно, коли разобраться, от лукавого, избытка времени и — не о тебе дед — нездорового тщеславия. А ты, Шаих, случаем не поэт?
Шаих не успел проглотить пирога, а Пичуга уж продолжал:
— Вижу, что нет. И я тоже. На лирике теста не замесишь. Полотна эти тоже, кстати, не съешь, и водой этой… — Пичуга кивнул на водопад с верха до низу стены, — …не запьешь. Сегодня научно-техническая революция — эн-тэ-эр определяет прогресс! А это, — обвел он вилкой комнату, — конечно, все это хорошо… Прекрасное хобби ветерана войны, но не суть его. Наш дед прежде всего солдат Великой Отечественной, боец славной конной дивизии Доватора, сабелькой, да, да, сабелькой крошивший вооруженных до зубов фрицев.
Пичуга нарочито гордо посмотрел на деда, но тот словами внука не вдохновился.
— Айе, да, картину не скушаешь. — Голос Кияма-абы сделался глухим, а плохой его русский — еще хуже. — Не скушаешь… Но человек без них уща-мараха (одно из словечек его собственного творения, что приблизительно означало — «пшик»)! Картины… Картины меня из инвалидной коляски подняли. — Киям-абы положил в рот собранные со скатерти хлебные крошки, замолчал.
— И это — мое воспитание?! — Роза Киямовна укоризненно посмотрела на сына. — Это — внук родоначальника… первого у нас в республике иллюзиониста?!
— Ты хочешь, чтоб я был потомственным фокусником?
— Хорошим человеком.
— А я?..
— А ты задираешь нос. Не знаю — книг читаешь много, а что в них черпаешь?!
— Информацию! — Пичуга ткнул в воздух пальцем. — В литературе она, кстати, худо-бедно имеется. А вот в натюрмортах… Возможно, что-то и дают они сердцу, но уму… Никакой пищи.
— А футбол твой любимый как же? — поинтересовалась Юлька.
— Футбол? Э-э, футбол — это высшая математика! В нем как нигде голова нужна. По игре команды я запросто скажу, что за люди ее представляют, что за человек ее тренер. Только ли… Я определю вам, из какой она страны и с каким политическим строем та страна. Вот что такое футбол. Это срез государства, это занятие интеллектуальное!
— Хорошо, — не отставала Юлька, — а как же твоя пламенная страсть к архитектуре?
— Все в пределах логики. Архитектура — это опять же информация. И потом кто из математиков к ней равнодушен? Архитектура насквозь геометрична. И наоборот, кем, как не великими зодчими, назовешь Евклида, Менелая, Декарта, Лобачевского… Николай Иванович Лобачевский наш университет по камешку собрал. Видели б вы конечные планы постройки! Удивляюсь, почему его имя не ставится вместе с архитектором Пятницким? Лобачевский был таким же автором, нет — главным автором, руководителем, строителем, снабженцем, толкачом, хозяином…
На Пичугу накатило вдохновение.
— Математика… Жизнь — и ту следует подвергать матрасчету. Надо уметь быть ее истинным автором. Вот я свою на пятьдесят годов вперед спланировал. Что ты, Шаих, будешь делать через неделю в девятнадцать тридцать? Не знаешь? То-то и оно. А я знаю. Я, например, знаю, что женюсь в тридцать три. И на ком бы думал? — на скрипачке. И уж кандидатура есть. В этом году после детского садика в музыкальную школу пойдет — косички, бантики… Симпатяшка! Доведу ее до необходимого возраста, воспитаю в нужном ключе… А уж после консерватории — официальное предложение…
— Ой, Саша, ой, Саша! — Роза Киямовна перевела взгляд с сына на отца.
Только теперь Шаих подметил, что шевелюра у Кияма-абы подкрашена. «Седой, наверное, совсем», — подумал Шаих. Ему нравился простодушный старик, и картины его нравились, и, оказывается, какая непростая у него судьба. Коробила необузданная откровенность Пичуги. Но помимо воли, вскользь брошенные суждения его, как того хотелось бы, не отвергались сознанием — находили неожиданную почву. И впрямь, портреты — а в этой комнате висели в основном портреты — были удивительно похожи друг на друга: с плоскими лицами, в одинаковых позах (по пояс, вполоборота, со взглядом куда-то мимо зрителя), они напоминали манеру кого-то из великих и в то же время никого не напоминали, равным образом и самих портретируемых. Не тотчас он узнал на стене рядом с Юлей — Пичугу, Розу Киямовну, да и белокурая голубоглазка — с венком из васильков для него не сразу оказалась Юлькой. И затем Шаих поймал себя на мысли, что Пичуга был неприятен ему в эти минуты не только из-за своей несдержанности по отношению к деду — пусть ты прав, но зачем трубить? — но и потому, что предстал, как кривое зеркало, в котором он, Шаих, увидел себя. Ведь и он, подобно Пичуге, лишь не так безоговорочно, считает: картошка с хлебом на столе лучше, чем на картине, и его по страницам книг ведет прежде всего любопытство, и он тоже, пусть немного по-другому, но — тут уже безоговорочно — верит в торжество НТР. Отсюда, ясное дело, любовь к научной фантастике и страстное желание ввинтить свой винтик в машину, несущуюся в будущее. Однако отсекать искусство, поэзию лишь по той причине, что их при надобности на хлеб не намажешь, не съешь, не привинтишь и не пришьешь, по крайней мере, странно. Да и заговорился Пичугин. Передергивал, передергивал, рубанул по искусству с одной стороны и тут же приклеился с другой, ведь архитектура все-таки — прежде всего искусство, а уж после математика. Что же касается матрасчета жизни, так и он, Шаих, кое-что планирует. Не женитьбу на юной скрипачке в тридцать лет, конечно…
Шаих еще раз посмотрел на произведения Кияма-абы. Что ни говори, а Пичуга прав: манера рисования шла не от избытка умения, а как раз от его нехватки. Потому и лица на портретах узнавались не сразу. Но в заторможенном угадывании, в сдвиге реальности и была та изюминка, вкус которой Шаих ощутил сразу, но объяснить себе не смог, поддавшись сперва чужому вкусу. Это была, быть может, та самая нехитрая изюминка, к которой многие художники идут через опыт и мастерство, как люди «к началу своему» через всю жизнь.
Киям-абы молчал недолго. Внук опять его разговорил. Знал, чем пронять. Дед ревностно относился к чистоте и чести родной речи и не переваривал расхожие толкования о растворении многонациональных языковых меньшинств. Пичуга говорил:
— Взаимовлияние языков! Процесс естественный. Как ни крути, на земле в конце концов останется какой-то один… единственный. В одной из резолюций Первого Интернационала записано, что всеобщий язык был бы всеобщим благодеянием и сильно способствовал бы сближению народов. Люди это давно поняли. Представьте, еще двадцать пять веков назад был создан санскрит — всеиндийский язык, которым и сегодня пользуются в этой стране, где наций, как сельдей в бочке. Примерно то же, между прочим, сделали для славян Кирилл и Мефодий. А в восемнадцатом веке некий проходимец и авантюрист Псалманазаром изобрел первый независимый, целиком и полностью искусственный язык. И алфавит из пальца высосал, и словарь. А куда денешься, когда он выдавал себя за жителя только что открытого за тридевять земель, вернее, вод — острова. Сам он, вроде, французом был. Как видишь, необходимость в языковой интеграции, дедуля, появилась в незапамятные времена. После «тайванского» проходимец-то свой язык тайванским назвал — каких только вариаций не было — «сабир», «бич-ла-мар», «воляпюк», «эсперанто»… Понятно, все искусственное — искусственно. Скажем, первый король Гавайских островов по случаю рождения сына придумал новый язык и в приказном порядке заставлял говорить на нем. И что же? — ребенка отравили, а нововведение в результате было быстренько позабыто.
— А-ха! — щелкнул пальцами Киям-абы.
— Чего — а-ха? И я не за суррогат. Однако то, что какой-то один живой язык совершенно естественным образом вберет в себя все остальные и станет доминирующим, а затем и единственным — бесспорно.
— Все у тебя обосновано, — вздохнул Киям-абы. — Даже то, что не умеешь разговаривать на языке матери! Кому, скажи, помешало знание языка своих колыбельных песен?