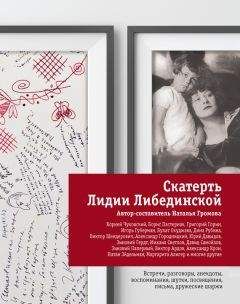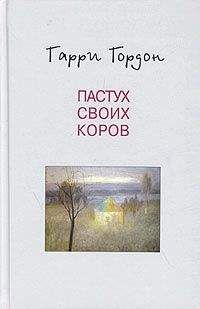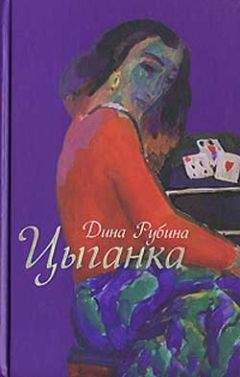Гарри Гордон - Пастух своих коров
Колька привязал к багажнику велосипеда рулон рубероида и побрел со всей своей живностью на остров. Наскоро срубив козлы, он затолкал и уложил первое бревно верхнего венца. Осина слегка подсохла с начала лета, но еще не звенела.
Колька подошел к берегу, стал на четвереньки и окунул голову в теплую воду. Сев на песок и зажмурившись, с удовольствием следил за ходом струйки по позвоночнику.
Тишина стояла непомерная, слишком огромная для речного этого пейзажа, скорее морская, или даже океанская. В нижних слоях угадывались запахи йода и соли, синий блеск каменного угля, мутный бред вымирающих рептилий. Повыше, на уровне Колькиных ушей, с легким шорохом выжималась из тишины высохшая шелуха иероглифов и рун, плавала, переворачивалась перед глазами и растворялась. В верхнем слое стоял, как отпечаток, неподвижный коршун.
Колька разрушил великую эту тишину долгим вздохом, поднялся и пошел доить.
К вечеру небо заволокло слоистой дымкой, дрогнула река, холодный шквал пробежал по воде. С севера, из-за леса, выбиралась воспаленная туча, выдвигалась на фланги, захватывая восток и запад. Коричневые ломкие волны колотились о песок, шквалы срезали с них пену, а затем и сами волны срывались у основания, и вскоре река стала выпуклой и бугристой, поверхность ее напоминала мех.
Колька вытащил из мятого логова пару телогреек и поволок их вместе с брезентом к избушке. Он порадовался, что поставил ее в низинке, где ветер послабее, и что уложил сегодня бревно как раз с подветренной стороны — все-таки повыше. Он расстелил под стеной телогрейки, бросил сверху брезент и побежал было сгонять коров, но они подходили уже сами и укладывались вокруг.
Резко стемнело, из-за реки доносилось угрожающее порыкивание. Колька лег на спину и по шею укутался брезентом. Шумели и мотались вершины, на открытых местах березы и сосны стелились, как травы, резко выпрямлялись и вновь стелились. На мгновение стихло, и тут же обрушился ливень, и гром взбивал почву, приближаясь, и молнии становились все ярче.
Колька тщательно подоткнул под себя брезент, закрыл лицо, и, окончательно окуклившись, старался не шевелиться, словно боялся выдать свое присутствие. Ему было жутко и весело, и думал он о том, что травы завтра будут сочнее, и что, слава Богу, засуха кончилась, а это уже другая жизнь.
Громыхнуло и вспыхнуло одновременно, и старая ель, вывороченная с корнями, обрушилась вершиной на избушку. Верхнее, свежеуложенное бревно щелкнуло, ткнулось торцом о землю и улеглось поперек Колькиной груди. Дыхание перехватило, тупая боль разломила голову, ослабели ноги. Колька с трудом высвободил руки из-под брезента, выпростал лицо. Он не понял, потерял сознание или нет, реальность исчезла — дрожала земля, и молнии не гасли, а мерцали непрерывно холодным светом. Колька попытался сбросить бревно или хотя бы сдвинуть, но оно не сдвигалось, толстое и ладное, сам выбирал, длиной в два с половиной метра. Ладони скользили по мокрой поверхности, рычаг от локтя был слишком мал, Колька впивался тупыми ногтями в наплывы камбия и толкал, исказив лицо под холодным ливнем.
Наконец бревно пошатнулось и сползло на живот. Колька выдохнул. Неизвестно, как долго он сможет напрягать пресс, но можно было дышать.
Белые деревья с розовыми и зелеными тенями двигались, казалось, осмысленно, то ли это был ритуальный танец, то ли что-то посерьезнее. Колька вглядывался, пытаясь определить действие.
Спиральные движения вверх сменялись насмешливым приседанием, резкое отрицание сменялось величественным спокойствием. «Да это же Эль Греко», — догадался Колька. «Господи, чего я только, оказывается, не знаю, — простонал он, — только зачем».
Представление окончилось внезапно — дождь прекратился, молнии погасли. Стало темно и тихо. Силы уходили в землю, как электричество, руки стали ватными, ладони не сжимались. Ног по-прежнему Колька не чувствовал.
В мутном небе блеснули звезды, темный силуэт склонился над ним. «О, ангел!», — улыбнулся Колька… Крупное лицо приблизилось вплотную, угадывались большие глаза. Сверкнул над головой рог полумесяца. Ангел обдал Кольку горячим дыханием и утер ему лоб чем-то глянцевым и теплым.
КОММЕНТАРИИ К БЕЗВОЗВРАТНОМУ ГЛАГОЛУ
Повесть
«На диком деревенском лугу мальчик играет в железную дорогу. И прав: ведь паровоз плох не тем, что уродлив, и не тем, что дорог, и не тем, что опасен, а тем, что мы в него не играем».
Гилберт К. ЧестертонПетр Борисович подбрасывал в печку дрова — клацал дверцей, шуршал кочергой и не сразу услышал стоны за дверью. Выскочив, он увидел в синем снежном проеме своего гостя, лежащего на пороге и пытающегося встать. Подхватив гостя подмышки, Петр Борисович поволок его, пятясь, через веранду в избу, с трудом сдержал спиной пружинящую дверь. Серафим Серафимович морщился, втягивал сквозь зубы воздух и помогал Петру Борисовичу, отталкиваясь здоровой ногой.
Что-то с голеностопом — перелом ли, вывих, — как тут определишь — нога темнела и опухала. Зачем было класть на крыльцо линолеум, — летом он ничего, розовый и чистенький, а сейчас, покрытый изморозью… Пригласил, называется, малознакомого человека на рыбалку.
Серафим Серафимович, физик из Питера, был приятелем старого друга, и виделись они раза три. При последней встрече пилось легко и свободно, и Петр Борисович ощутил, в очередной раз, удушающий приступ радушия. В этом состоянии он и зазвал засидевшегося в кабинетах ленинградца на зимнюю рыбалку, посулив черный небосвод с крупными, таких вы не видели, слезящимися на ветру звездами, шуршание и потрескивание поземки в зонтиках дягиля, и красные перья окуней на теплом снегу.
Предполагалось побыть дня три или четыре, и продукты были захвачены на этот срок, с учетом подножного улова. Весь 12-километровый путь от автобуса по заснеженной реке Серафим Серафимович помалкивал, откровенно смущаясь.
И вот… всего час, как добрались, изба еще не нагрелась, не выпили даже с устатку и со свиданьицем…
Вошел Савка, один из четырех постоянных жителей деревни. Он был видимо рад приехавшим живым людям, но поздоровался буднично, даже небрежно.
— Да-а, — сказал он, глянув на ногу Серафима Серафимовича. — У меня такое было в запрошлом годе. Винтовой перелом голени.
— Господь с тобой, — отмахнулся Петр Борисович.
— Ты, Борисыч, не махай, а дело делай. Шину сперва наложи, кусок вагонки пойдет. А потом — гипсовать надо.
— Чем же гипсовать!
— В том-то и дело. Подумай. А пока, видишь, — мужика трясет. Это шок у него. Ты его накрой ватным одеялом и водки дай. И мне налей.
Серафим Серафимович выпил и закрыл глаза.
— Может, мне вас на санках доволочь до больницы?
— На санках не пройдешь. Только на волокуше. — Савка понюхал корочку. — И то — нет.
— Скорее всего, — вздохнул Петр Борисович. — А вы видели фильм, недавно шел? «Пастух своих коров» называется. Не помню, кто режиссер.
— И что? — не открывая глаз, спросил Серафим Серафимович.
— Там один деятель гроб таскал по реке. Полчаса реального времени. Представляете?
— Зачем?
— Очень красиво.
— Гипсуй! — перебил Савка.
— У меня в сарае, — вспомнил Петр Борисович, — ведро с глиной. Для печки.
— Вы с ума сошли, — зашевелился Серафим Серафимович, — она все равно держать не будет. Только перемажете все.
— Годится, — кивнул Савка. — Нужна еще толстая бумага и марля. Для арматуры. Марля есть? Теща, небось, творог делала?
И бумага была. С незапамятных времен хранил Петр Борисович несколько листов ватмана, настоящего, гознаковского. Хранил для особо вдохновенных, торжественных акварелей. Но вдохновение приходило и уходило, потом настали новые времена со всевозможными торшонами и верже, а рынок, между тем, требовал холста и масла; ватман томился в рулоне, и больно было смотреть на замятые и потрескавшиеся края.
Вздохнув, Петр Борисович отрезал четверть листа.
— Захватывай пятку, — учил Савка. — Мотай, как портянку. А пальцы — оставь. Пусть пошевеливает.
— Протестую, — высоким капризным голосом протянул Серафим Серафимович. — Коль скоро вы надо мной изгаляетесь — требую наркоза!
— Налей ему, — скомандовал Савка, — и мне. Немножко. А сам — не пей. Тебе за печкой следить надо.
После ста граммов Серафима Серафимовича озарило: жалко, очень жалко художнику этой зернистой бумаги.
— Мне кажется, — сказал он, глядя в потолок, — что следовало бы, для верности, намотать еще кусок.
— Больше — не надо! — отрезал Савка. — Бумага херовая, толстая. Еще сопреет. Так. Теперь марлей. Давай, я сам. А ты глину волоки.
Глина оказалась каменная, истоптанная птичьими лапами изморози.
— Ничего. Кипятком обдай, — решил Савка.