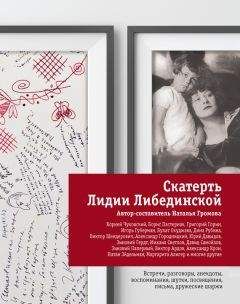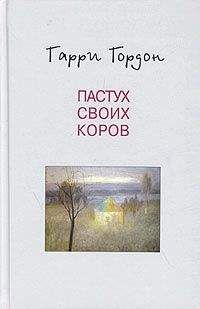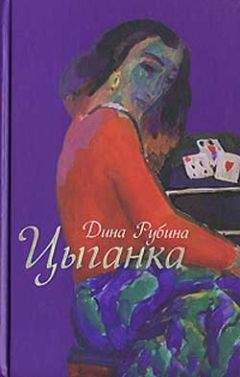Гарри Гордон - Пастух своих коров
Когда нога была вылеплена, Петр Борисович развеселился:
— А что, Савка, давай сделаем вытяжку. Чугунный утюг подойдет?
— Не позволю творить из меня инсталляцию! — мотал головой Серафим Серафимович.
— Не боись, — успокоил Савка. — Так обойдется. А в пятницу приедет Митяй на джипе, он — увезет. А завтра палку принесу. На двор ходить надо будет? Вот. Если по малой нужде, можно прямо с порога, ничего, а вот посрать — Борисыч отведет.
Савка ушел поздно. Серафим Серафимович дремал, постанывал, елозил глиняной ногой по скамеечке, установленной на кровати.
Глухая ночь была за окном. Петр Борисович посмотрел на часы — половина десятого. Он взял топор, зажег на веранде свет и принялся отрывать линолеум на крыльце.
Лист оторвался целиком, заскрипели ржавые гвозди. Доски под линолеумом были сухие, слегка подгнившие. «Ну и слава Богу, — вздохнул Петр Борисович и закинул лист вместе с гвоздями в темную пасть сарая. — Весной разберемся».
В избу идти не хотелось, Петр Борисович поежился и вдруг понял: тепло было на дворе. С шорохом падали в снег капли с сосулек, тугой влажный ветер напирал с запада. Земля слегка шевелилась и дышала, как корова костромской породы — в рыжих подпалинах прошлогодней травы, в темных пятнах оттаявших кочек. Дыхание ее пахло парным молоком и тмином. Петр Борисович ощутил приступ восторга и признательности — к чему призывал когда-то своих учеников хмельной Саврасов.
В избе было жарко, на столе толпились наскоро разодранные пакеты с колбасой, сыром, салом, подтаивало на тарелке масло. «Завтра приберусь», — отстраненно решил Петр Борисович и выпил рюмку водки.
Проснулся он от стука — что-то тяжелое вязко шлепалось на пол. Серафим Серафимович сдавленно матерился и кряхтел. «Глину сдирает, — догадался Петр Борисович. — Вот и хорошо. А то — бред какой-то. Как это меня Савка подставил». Он фыркнул было, но тут же уткнулся в подушку и прикинулся спящим — разговаривать не хотелось.
Серафим Серафимович тем временем освободился от глины, нашарил фонарь на тумбочке и швабру, приготовленную заранее, сунул жесткую щетину швабры подмышку и побрел — от кровати к столу, от стола к печке, от печки к порогу. Дверь хлопнула — одна, вторая — не так уж и плохо. Может, просто ушиб.
Хотелось закурить, но придется подождать — пусть заснет Серафим Серафимович. Что-то долго его нет. «Посчитаю до ста двадцати, и только тогда начну волноваться».
Как неловко все-таки вышло. Рыбалка отпадает — это уж точно. Но была обещана уха — гвоздь поездки, яркое пятнышко в колорите. Придется ненадолго отлучаться. Чем же занимать его по вечерам… Петр Борисович согласился бы даже на нелюбимый преферанс — но Савка, слава Богу, не партнер…
Серафим Серафимович проковылял мимо спящего Петра Борисовича и с облегчением вытянулся на кровати. С ногой, вроде, ничего страшного — наступать только больно. А опухоль почти не увеличилась.
Странный он мужик, этот Петр Борисович. Дерганый какой-то. И не компетентный. Серафим Серафимович пошевелил пальцами ноги. И не рыбак вроде — на показанные ему восхитительные мормышки ручной работы не отреагировал никак, кивнул только вежливо.
Все равно хорошо. Питер, казалось бы, рядом, в четырехстах километрах, а не скажешь — все другое. Другое пространство, время другое, свободное время. Если разобраться — вся жизнь прошла в погоне за свободой: она мерещилась совсем рядом, явственно угадывалась ее презрительная улыбка, необходимо было поймать ее и овладеть.
Серафим Серафимович хорошо знал места ее обитания — в престижном вузе, в дворницких и котельных, в прокуренных кухнях и, конечно же, у костра — с песнями Галича и Окуджавы, Клячкина, Кукина и самого Городницкого. А в девяносто первом ее занесло на баррикады в жарком августе, с обнаженной грудью — чем не Делакруа. Пришлось тащиться за ней в Москву и отлавливать, взявшись за руки с вечными студентами и домохозяйками. Опять ускользнула. А через полтора года, в трескучий мороз, когда Серафим Серафимович торговал с лотка молочными продуктами, подошла, закутанная, протянула без улыбки тыщу и исчезла в испарениях толпы.
— С чего ты решил, что это была я, — ухмыльнулась Свобода.
— Ну, это вычислимо, — объяснил Серафим Серафимович. — Поступок твой иррационален и бессмысленен. Унизить меня ты вряд ли хотела, хотя, по зрелом размышлении…
Резкий враждебный стук по стеклу и внезапная боль в ноге перехватили дыхание. Серафим Серафимович сел, нащупал железные прутья спинки кровати и потрогал ногу. Стук повторился.
— Что это? — выдохнул он.
— Это Савка, — спокойно ответил Петр Борисович со своего места. — Опохмеляться пришел.
— Среди ночи?
Петр Борисович чиркнул зажигалкой.
— Без пяти восемь. Как раз подоил.
Ночной оттепели как не бывало, сырой мороз обжигал пальцы, по синему, зеленому, черному лицу Савки била снежная крупа.
— Ввуй, ввуй-ввуй, — произнес Савка и виновато искривил губы. — Помираю, — добавил он уже в избе.
Затрещала печка, Петр Борисович убрал в холодильник лишние пакеты, поставил сковородку на плиту.
— Савка, нам так водки не хватит, — строго сказал он.
Опохмелившийся Савка тепло посмотрел на Серафима Серафимовича.
— Как нога? Вижу, ты от гипса избавился. И правильно. Так лучше заживет. А водки как не хватит — к Нинке можно сходить. Работнице Митяя.
— Вот ты и сходишь.
— Я — нет. Не дает она мне. А тебе — даст. Ты незнакомый.
— А Васька с Машкой живы?
— Живут. Только я к ним не хожу. Сволочи они.
— Чего это?
— Да провинился я перед ними. Ну их. И к Нинке не хожу. Она хамка. Батрачка.
— Ты смотри, какой барин, — изумился Петр Борисович.
— Барин, не барин, а сам себе хозяин, — с достоинством ответил Савка, оторвал фильтр от сигареты и закурил.
— Господа, — осторожно сказал Серафим Серафимович, — а правильно ли мы поступаем, когда курим в избе?
Петр Борисович почему-то рассердился:
— В избе живут, — сдержанно ответил он, — а значит, спят, любят, ругаются, едят, пьют и курят. А вокруг — снега. А все остальное — народничество. А на эти бумажные иконки не обращайте внимания.
— Резонно, — подумав, согласился Серафим Серафимович. — Тем более, что Бог — это, конечно же, не бумажки. Бог — это квантовая механика.
«Не следовало говорить про иконы», — с досадой подумал Петр Борисович.
— Савва, на рыбалку пойдешь? — спросил он.
— Хер что поймаешь, — улыбнулся Савка, — я так не люблю. Я хожу в марте, когда щука нерестит. Летось набил строгой три бочонка. Вымачиваю и ем. Говно рыба. А ты — сходи. А Херсимыч пусть поболеет.
— Мужики! — побледневший Серафим Серафимович показывал рукой в сторону печки. — Мотыль!
Коробочка с отборным мотылем лежала в кармане ватника, повешенного для просушки. Рубиновые черви побелели, посередине коробочки пузырилась пена, похожая на плевок.
— Подохли, — установил Савка. — Кто ж так делает! Зачем! Надо было промыть и в тряпочку. На подоконник. Вот, рыбаки, вашу…
Савка глянул на бутылку и замолчал.
— Репейник, — строго сказал Серафим Серафимович, — репейник есть?
— У тебя, Борисыч, весь огород репейником зарос. Я даже корову по осени перестал загонять, — проболтался Савка.
— Значит, загонял все-таки? Вот пойди и наломай, за потраву. А я человек городской, репейника от кипрея не отличу.
Савка завалил избу высокими растопыренными стеблями. Ворох навалил на кровать Серафиму Серафимовичу.
— Вот тебе теща устроит, — потешался он. — Зато мышей не будет. Колючки пугают. Так и передай.
Стеклянным полднем Петр Борисович вышел на лед. Было тепло — минус три-четыре градуса. Сырость исчезла. В расплывчатом небе временами проступало мутное солнце.
Середина декабря — не лучшее время для рыбалки. В коричневой глубине столпились в стаи, чешуя к чешуе, полуобморочные окуни, беспомощно шарахаются от тугой струи, гонимой угрюмым судаком-одиночкой, окаменелые лещи стоят в строгом порядке, как вымытые после пиршества уцелевшие тарелки. Только налим беспокойно похаживает в корягах, бесцельно потрагивает осклизлые сучья, томится в тревожном предвкушении нереста.
Петр Борисович разгреб валенком снег и стал бурить лунку в мраморном льду. Лед, спрессованный многими оттепелями, поддавался с трудом, ледобур елозил в ямке с белым крошевом, буксовал.
Сердце бухало, Петр Борисович сбросил тулуп и отдышался. И это все, что мы имеем в пятьдесят пять лет? Если что, не выживешь, как говорит Савка.
Бур, наконец, провалился. Петр Борисович с силой выдернул его, желтая вода залила снег и, качаясь, осела в глубине лунки.
Подледный лов заинтересовал Петра Борисовича относительно недавно — он не любил холода, к тому же любил воду, много воды, желательно до горизонта. А тут — дырка в асфальте, что прикажете любить?