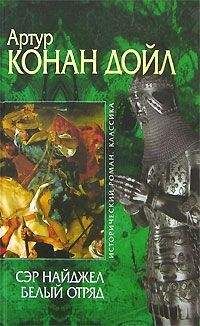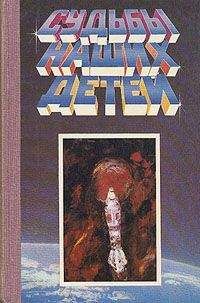Наталия Вико - Шизофрения
— Как это при чем? — возмущенно воскликнула та. — Земля у нас одна!— категорическим тоном заявила родительница, с чем Александра была полностью согласна. — Надо уметь мыслить в мировом масштабе! — поучительно добавила она.
Тоже не поспоришь: общепланетарное мышление — украшение интеллекта.
— Африка тебе — не Франция!
С этим тезисом тоже без сомнения согласились бы и французы и африканцы, хоть однажды видевшие политическую карту мира.
— Хочешь морковный сок? — мама взяла яблоко и указала на кувшин на прилавке.
— Спасибо, мамочка! Совсем не хочу. Я прижизненную норму еще в детстве выпила, — неосторожно сказала Александра и, не дав маме произнести обкатанную фразу про то, что «у всех дети, как дети, а у меня…» торопливо добавила:
— Я ведь только попрощаться заехала. Завтра улетаю. Так неожиданно!
— Вечно у тебя все неожиданно, — ворчливо пробормотала маман. — Правильно отец говорил, что ты все куда-то торопишься, будто опоздать куда боишься. Как семимесячной родилась, с тех пор и живешь так же. Кстати, — смерила дочь осуждающим взглядом. — Надеюсь, ты не поедешь в Европу в этих, с позволения сказать, штанах? Ноги, как две сосиски обтянутые. В целлофане. Тебе все-таки уже тридцать. Не девочка.
— Ну, спасибо, что не сардельки! — хмыкнула Александра. — А штаны эти — джинсы называются.
— Да помню я, помню. Американские пастухи их придумали, — мама подошла ближе и критически осмотрела лицо дочери. — И глаза так не крась. А то похожа на… — она задумалась, подбирая слова, — на загнивающего покойника, — сказала издевательским тоном и скорбно поджала губы.
— Ну, у тебя и сравнения! — Александра поморщилась.
— А что ты злишься? Кто тебе правду в глаза скажет, как не мать? Ты ж не уродка какая, чтобы себя приукрашивать. Может, чаю хочешь? — мама включила электрический чайник и поставила на стол ярко-зеленую кружку с надписью «С Новым годом!» — И не забывай, дорогая, — глянула на дочь строгим взглядом секретаря партийной ячейки, — что ты — представитель великой страны! Поэтому веди себя скромно. По тебе люди на Западе будут судить, какие мы.
— Мам, да люди на Западе давно уже все про нас поняли. Наши в Европе, чтобы от комплекса неполноценности избавиться, миллиард долларов на вечеринки только в Рождественскую неделю тратят.
— Это, дочка, не наши, — строго сказала мама. — Это люди без совести и без родины, которые только о себе думают. Сколько детей на такие деньги поднять можно. А ты веди себя там достойно. Страну не посрами.
— Не посрамлю, мамочка. Ты не переживай, — она обняла мамулю за худенькие плечи.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Па-риж… Па-риж…— проговорила Александра вполголоса, вслушиваясь в мелодику слова.
«Париж! Как много в этом звуке для сердца русского… — сложились в ее голове почти пушкинские строки. — И действительно, почему так манит русских этот город? — размышляла она, устроившись на деревянной скамье в Соборе Парижской Богоматери. — Ничуть не красивее Вены, Праги или Будапешта. Что в нем есть такого, что заставляет вздыхать, едва услышав название, так будто каждый пережил романтическую любовь на берегах Сены? „Увидеть Париж и умереть!“ Образное выражение? Но почему такой образ не приходит в голову тем, кто увидел Венецию или Рим? Правда, есть исключение — Египет с его пирамидами. Но там все посерьезнее, там уже не поэтический образ, а реальность. А, может, в названии Париж есть какая-то закодированная информация, которая на подсознательном уровне сидит в каждом из нас? А Собор Парижской Богоматери? — она окинула взглядом огромное величественно-строгое пространство храма. — Да, шедевр готического искусства, но ничуть не лучше, чем Миланский, Шартрский или Кельнский соборы. Что так привлекает именно в нем?»
— Петь, глянь витраж, — услышала родную речь сзади, — просто суперский! Я от него прям обалдела! Да вот, справа. Я у нас на втором этаже что-то в этом роде хочу. Сделаешь? Тогда щелкни. А еще, глянь наверх, там тоже витраж прикольный вверху.
— Мне, блин, чтоб так голову задрать — лечь надо, — мужчина с пивным животом, фотокамера в руках которого казалась спичечным коробком, опустился на скамейку рядом.
Александра поднялась и отошла в сторону.
«Почему мы сторонимся соотечественников в Европе? — думала она, направляясь к статуе Парижской Богоматери. — Может, смущаемся бесцеремонности, бахвальства и показной широты души — гулять так гулять, мол, знай наших — как будто, дорвавшись до денег, многие пытаются отыграться за десятилетия полунищего убожества и вынужденного аскетизма? Как узнаем друг друга, даже если молчим? По вечно озабоченным и напряженным глазам, которые будто ждут подвоха от окружающих? Уж пятнадцать лет примеряем европейскую жизнь на себя, а многие уже носят — и не потому, что в Европе для нас лучше, а потому, что спокойнее — а глаза все равно — русские. Но, самое удивительное, проходит немного времени и, изможденные ностальгической болью, опять бежим от затхлой европейской стабильности назад — в свою непредсказуемость, морщимся и бурчим, начиная с аэропорта Шереметьево, но в глубине души радуемся и наслаждаемся безумной, смешной до слез и горькой до смеха жизнью на родине, без которой и дышать тяжело».
Александра остановилась перед статуей Девы Марии с младенцем на руках. Величественная женщина с короной на голове, в роскошных одеждах, ниспадающих крупными складками, свысока разглядывала суетливых туристов.
«Для жены простого плотника Иосифа одета вызывающе богато, — отметила Александра. — А у ребенка на руках… — она задумалась, пытаясь подобрать определение, — …лицо рассерженного старичка». Скользнула взглядом по огромному букету белых лилий и снова принялась рассматривать царственную скульптуру.
— «Я есть все, что было, все что есть, все что будет; ни один смертный никогда не проникнет под покров моей тайны», — услышала за спиной негромкий голос и обернулась. На нее с улыбкой смотрел ухоженный загорелый мужчина средних лет, с мягкими чертами лица и крупными волнами темных волос. Глаза внимательные, с чуть заметной лукавинкой и, даже показалось, знакомые. Одет в дорогое кашемировое пальто. Такое пальто, только другого цвета, она видела на Кузе.
— Простите, я недостаточно хорошо говорю по-французски, — на всякий случай схитрила Александра. — Вы что-то сказали? — она вопросительно посмотрела на незнакомца.
— О, пардон, мадам! Мне, право, неловко. Я, кажется, прервал ваши мысли, а что может быть хуже? Вы, если не ошибаюсь… — он замялся.
«Так, — подумала Александра. — Похоже, мсье ко мне клеится. Прямо на улице. Точнее, в храме. А мне это надо?»
Ответа на вопрос у нее не было. Во всяком случае — пока.
— Вы, кажется, русская? — незнакомец смотрел приветливо.
— Русская! — она вскинула голову и взглянула надменно, как человек за спиной которого стоят Пушкин, Достоевский, Толстой, первый космонавт Юрий Гагарин, балет Большого Театра, несметные запасы нефти и газа и — патриотка-мама.
— Вы ведь вчера давали интервью французскому телевидению? — чуть помедлив, неожиданно продолжил незнакомец уже по-русски, слегка картавя. Заметив удивление в ее глазах, торопливо добавил:
— Мне понравилось. Очень! Такие интересные наблюдения! Вы выступали на конферентсии с докладом, да?
— Да, — кивнула она. — А вы тоже психиатр?
— О, нет, что вы! — засмеялся он, откидывая прядь волос со лба. — По образованию я архитектор, — забавно поставил ударение на последний слог, — но сейчас, — задумался с полуулыбкой, подбирая определение, — сейчас я, скорее, пластический хирург… по камню, — посмотрел со смешинкой в глазах, явно ожидая реакцию.
— Я поняла, — улыбнулась она. — Вы — камнетес! Отличная профессия! — сказала так, будто одобрительно похлопала его по плечу.
— Скорее — «macon», — скромно произнес он последнее слово по-французски.
«Какая интересная игра слов, — подумала Александра. — Хотя если бы он действительно был масоном, то никогда бы в этом не признался, тем более незнакомой женщине».
— Который отсекает все лишнее? — она весело взглянула на незнакомца.
Тот радостно закивал, разглядывая ее уже с нескрываемым интересом.
— А-а… Так вы не каменщик, а скульптор! — изобразила она простодушное удивление.
— Да, мадам, — незнакомец расплылся в улыбке.
«Скульптор — опасная профессия, — подумала она. — Для женщин».
Сразу вспомнила одного своего приятеля. Славку. Известного московского скульптора. Тот лепил только тех женщин, которых хотел. В том числе, изваять. «Тело красивой женщины — это храм, — высокопарно говорил он, вожделенно пожирая очередную жертву глазами. — Прекрасный храм чувственного наслаждения, двери которого открываются только перед посвященными — искренними знатоками, готовыми боготворить и поклоняться. Но чтобы скопировать шедевр, созданный Творцом, надо не только увидеть оболочку, но и почувствовать собственной кожей каждый изгиб, впадинку, выпуклость и шероховатость». Разговоры со Славкой были упоительными и возбуждающими, но до детального изучения ее собственных изгибов, впадинок и выпуклостей дело так и не дошло. Она не захотела становиться одним из экспонатов в его галерее обнаженных муз, а у него — более сговорчивые музы стояли в очереди на увековечение…