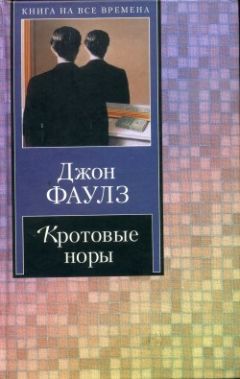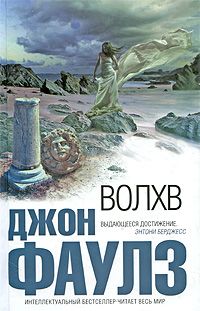Джон Фаулз - Куколка
— Лучше отдам мужу и отцу.
— Нельзя. Не хочешь сама, подкорми ублюдка. Давай. — Секретарь кладет грудку на хлебный ломоть. — Ешь, пока виселица не грозит. — Правый глаз опять дергается, будто в тике. — Муж и отец так не пируют. А могли бы. Я выслал им хлеба с сыром. И что ты думаешь? Говорят, не желают дьявольской еды. Так и лежит на тротуаре. Из милостыни вышел грех.
— Нет, то не грех. Спасибо тебе.
— И вам также за отпущенье грехов.
В короткой молитве Ребекка преклоняет голову, затем начинает есть. Секретарь поочередно вгрызается в ножку и ломоть, все сдабривая соленьями. Жрет, не заботясь о манерах. Такова жизнь: голод не тетка, не до пустяков. Ребекка наливает воду в бокал, подцепляет корнишон, потом другой и третий. От безмолвного предложения второй половины грудки отказывается, но берет яблоко. Когда сотрапезник превращает курицу в груду костей и допивает эль, Ребекка спрашивает:
— Как тебя зовут?
— По-королевски. Джон Тюдор.
— Где ты выучился так лихо писать?
— Скорописи-то? На практике. Дело пустяшное, как набьешь руку. А ежели потом сам не разберу, чего накарябал, то сочиняю. Могу казнить иль миловать, как мне заблагорассудится.
Правый глаз опять щурится в тике.
— Читать я умею, — говорит Ребекка, — а пишу только имя.
— Ну и ладно.
— Нет, я б и писать выучилась.
Секретарь не отвечает, но лед в отношениях растоплен.
— Ты женат?
— Угу. И свободен.
— Как так?
— Женился на одной, тебя еще языкастее. Пасть разевала, только чтоб спорить да перечить. Вот уж кто пригодился б Джо Миллеру{139}! Ты ей — брито, она тебе — стрижено! Раз отдубасил ее, так она не стерпела и сбежала. Оказала великую милость.
— Куда ж подевалась?
— А кто ее знает. Куда бабы деваются? К черту либо другому мужику. В смазливости до тебя ей далеко. Сгинула, и слава богу. — Вновь подмигивание. — Вот такую, как ты, я б еще стал разыскивать.
— Так и не вернулась?
— Нет. — Секретарь досадливо дергает плечом. — С той поры много воды утекло. Шестнадцать годов минуло.
— Давно служишь одному хозяину?
— Давненько.
— Стало быть, ты знал Дика?
— Никто его не знал. Поди его пойми. А вот он тебя, кажись, спознал. Чудеса, да и только.
Ребекка опускает глаза:
— Он же мужчина.
— Да ну?
Расслышав насмешку, Ребекка недоуменно смотрит на собеседника. Тот переводит взгляд на окно, затем вновь обращает его на девицу:
— Не слыхала, что ль, об этаком, когда греховодила?
— Об чем?
— Да ладно тебе! Тоже мне, святая! Нынче стоко порассказала, кому, как не тебе, разбираться в мужиках. Ужель не почуяла?
— Что-то в толк не возьму…
— Есть гнусный грех, противный естеству. Когда слуга — хозяин, а тот ему — слуга.
В ответ на долгий взгляд Ребекки секретарь слегка кивает, отметая ее сомнения; веко его опять дергается.
— Да нет…
— Не подмечала?
— Никогда.
— Даже в голову не приходило?
— И мысли не было.
— Что ж, ладно, святая наша простота. Ежели не спросят, об том молчи. И не дай тебе бог обмолвиться на стороне, коли жизнь дорога.
Со двора доносятся цокот копыт, противный скрежет окованных колес по булыжнику и понуканье кучера. Привстав, секретарь выглядывает в окно. Карета выезжает, и писец, не оборачиваясь, бормочет себе под нос:
— Он примет что угодно, только не сие.
Секретарь отходит к кровати и надевает сюртук.
— Оставлю тебя на пару минут. Оправься и пойдем к мистеру Аскью.
Ребекка кивает.
— Говори правду. Не бойся. Он лишь с виду такой.
— Иного не говорила. И не стану.
— Правды-то две, дорогуша. То, что кажется правдой, и всамделишная. Первой мы поверим, но ищем вторую.
— Говорю то, во что сама верю.
У двери секретарь оборачивается:
— Да уж, такую я б стал разыскивать.
Глаз его вновь подмаргивает, и он выходит вон.
Продолженье допроса Ребекки Ли
В: Ну что, голуба, продолжим. Не забудь, ты под присягой. Сперва ответь: известно ль тебе об содомском грехе?
О: Да.
В: Не случилось ли подметить, что его сиятельство и слуга их пали его жертвой и ему предаются?
О: Нет и еще раз нет.
В: При вашей первой встрече не было ль какого намека, что в том истинная причина немочи его сиятельства?
О: Не было.
В: А позже?
О: Нет.
В: Не приходило на ум, что в том-то все и дело, что б тебе ни говорили?
О: Я слыхала, у тех совсем иная манера. В нашем заведенье их знали, прозывая «голубками» иль «милашками». Повадка их совсем не мужская: фатоватые злобные хлыщи, отъявленные сплетники. В обиде на весь свет и всех проклинают, будучи прокляты сами.
В: Его сиятельство не таков?
О: Никоим образом.
В: На представленьях с Диком не отдавалось ли приказа об способе, противном естеству?
О: Ни словом, ни жестом. Сидел будто каменный.
В: Что ж, тебе и карты в руки. Уверена?
О: Ни с виду, ни по слухам он не из таковских. У Клейборн подобного об нем не говорилось, хоть мы частенько злословили об клиентах, обсуждая их изъяны и грехи. Лорд В., уж самая лондонская язва, кому за счастье услышать дурное об приятеле, об нем расспрашивал, но даже не заикнулся об этаком пороке. Говорил лишь об холодности его сиятельства, мол, ему науки приятнее женского тела, да еще выведывал, пришлась ли я по вкусу.
В: Что ответила?
О: Отбрехалась, дескать, об холодности — наговор.
В: Ладно. Пошли к пещере.
О: От правды не отступлю, мистер Аскью.
В: А я — от недоверья, когда мне угодно.
О: Недоверье правду не умаляет.
В: Ну, стало быть, ее не убудет. Рассказывай.
О: Мы поднимались к пещере, пока еще скрытой за взгорком, как вдруг на тропе возникла серебристая дама.
В: Что значит «серебристая»?
О: В чудной одеже будто из чистого серебра без всяких узоров иль украшений. Чуднее всего были тесные штаны наподобие тех, что носят моряки иль северяне, каких однажды я видала в Лондоне, но только еще уже — в обтяжку, точно лосины. Облегающая рубаха, скроенная из той же серебристой ткани. Сапоги черной кожи, вроде мужских, но короче и без ушек. Казалось, дама нас поджидала.
В: Хочешь сказать, она возникла из ниоткуда?
О: Видать, где-то пряталась.