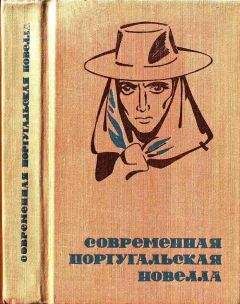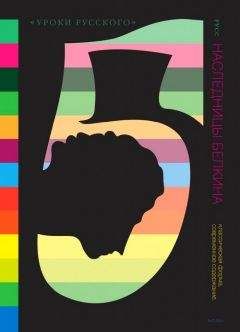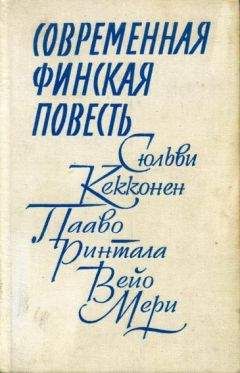Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Сколько же светит солнц? В ложбинке меж твоих грудей эмблемой легла тень от пшеничного колоска. Мы станем танцевать, а потом уснем на красной земле по ту сторону рва, за той запретной чертой, которую мы сами же провели!
Теперь нет кузниц, где выковали бы меч Тристана. В этот час свет безжалостен, но это — свет. Быть может, мы наконец видим солнце?
* * *Брожу по городу. День за днем я путешествую в самом себе и в этом хаосе бетона и эгоизма.
В нерешительности сижу перед чистым листом бумаги. Точным словом было бы слово «справедливость». А глаголом к нему, выражающим действие, — глагол «требовать». Но требуй не требуй — все впустую. Мы понимаем, что все равно надо требовать. Да, надо. Иногда те, кто глух к четырем слогам этого «подрывного» слова «справедливость» — есть справедливость и есть правосудие, как всем известно, — здесь мы имеем в виду справедливость, которая неподсудна, — так вот эти христиане (на новый или на старый лад) иногда открывают уши слову «милосердие», от которого у нас отвратительный вкус во рту: на губах, языке, зубах, нёбе.
О чем, собственно, речь? О старых людях, больных и одиноких: у них распухшие уши, воспаленные, гноящиеся глаза без ресниц, с застывшей слезой в уголке глаза, а сами они — куча тряпья, сгусток мертвой, почти мертвой крови, человеческого пепла… Когда кто-нибудь из; них умирает, его тело не всегда уносят в ту же ночь… И нередко на всю палату звучат бесчеловечные, безжалостные слова: «А его сосед-то тоже еле дышит. Того и гляди, отправится вдогонку!» Бездушие людей к себе подобным, когда те обижены судьбой, будь то бедняки, престарелые или негры, — вот где предел неосознанной жестокости.
Именно так обстоят дела в приюте, о котором я рассказываю. Однажды туда явились пять-шесть девушек из уважаемых семей с булочками, ласковым сюсюканьем, утешительными речами. Они-то надеялись обрадовать одиноких стариков — это скопище червей земных, удел которых — забвение, холод (не для того чтобы они лучше сохранились), облысение, выпадение зубов, загнивание мыслей и поступков. Но кто-то из приютских попечителей, сердобольная душа, сказал девушкам: «Да лучше бы вы эти булочки вашим собачкам скормили, чем переводить добро на этот народ…»
Вот до чего он дожил, «этот народ».
В приюте есть еще дети, воспитываемые за счет благотворительности (старость и детство — две крайности, которые сводятся нуждой). Девочек здесь за провинности оставляют без еды или привязывают к кровати на неделю, а то и больше, от чего многие из них страдают искривлением позвоночника. Их не выпускают отсюда до тех пор, пока как следует не выдрессируют.
* * *Вот какое противоречие: я не имею ничего (или, скажем, очень мало) общего с этим мини-миром. Миром, где ловят удачу, улыбаются, взмахивая наклеенными ресницами, сквозь зеленые жалюзи (так это у них называется) растрепанной души (какая странная женщина — так одинока и всегда смеется!), в особняках, садах, постели, на рынках, в оперных театрах четырех столиц…
Манеры непринужденные и властные. Как говорят у нас — настоящая сеньора. Может быть, не слишком образованна (нет, не могу поверить — с таким-то генеалогическим древом), но не лишена своеобразного charme[95], особенно когда отдает приказания (и одновременно в ней есть что-то детское).
Ничто из того, чем я живу, ее не интересует: ни книги, ни мое неприятие сегодняшнего мира, ни мои надежды на будущее… Должно быть, даже милосердие имеет для нее совсем иной смысл. И насилие — тоже. Так что же привело меня сюда, кроме этих тонких пальцев, которые в моих жестких ладонях превращаются в губы, в неуловимые, а потом смутно-тревожные движения? Что это за язык, столь властный и нежный, язык убегающих, дрожащих и наконец сплетенных пальцев, погружающий нас в желанное самозабвение?
Шел первый дождь в середине того далекого октября. Пахло морем. В доме пыльцой носились звуки музыки, допотопных пасодоблей, висели портреты предков и великомученицы в стиле барокко там играли в карты — в старинные карточные игры, и гадали, утомительно и устало философствовали. Конец мини-света, света без Гомеса Леала[96]. И так день за днем (два плюс два не будет три, а друзья умирают быстро, от пули из револьвера или автомата).
Идет дождь, сыплет без конца, октябрь наливается раздражением, яростью. Наши руки расплетаются. Где мы должны были быть и куда не попали, как утратили мы свою судьбу, предначертания которой не свершаются?!
Перед моими глазами возникает человеческая волна, люди прячутся, припав к траве за деревьями, летит камень, разбивая стекло страха, осколки низвергнутых авторитетов разлетаются по сторонам. Сирена, носилки, паника, дикие крики! А мы все танцуем, если это можно назвать танцем, мы влачим свои дни, соединившись без надежды, без тепла, без веры в стремительный бег истины…
* * *Город обрушился. Я проснулся другим, проснулся с проясненным взором — он был так темен от печали, что теперь я вижу все сверкающим и жестким: слова смешались без всякого порядка, я играю в них, как в шахматы, произвольно меняя названия фигур… Играю, но без особого старания.
Как гнутся под ветром деревья! Как пышет зноем земля! А люди в каменоломнях, карьерах, у бетономешалок, под испепеляющим солнцем восстанавливают день города. Вчера они приходили из провинции, сегодня — приходят с островов Зеленого Мыса, приходят в поисках хлеба насущного в город-трамплин, который ночь сотрясает, разрушает, сравнивает с землей, а ясное утро снова возводит на цементе тысячекратной лжи.
В карманах у богачей денег полно… Город замешан на стыде, откровенном страхе, презрении и пылкой гордости — моментально остывающей от холодного отчуждения. В полдень негры (и некоторые белые, большей частью старики) из моего квартала оставляют орудия своего труда — ведра с раствором, лопаты, мастерки — и разворачивают пакеты с едой, не глядя в нашу сторону; они не хотят нас видеть, и они правы, их правота выстраданная, попранная и смешанная с кровавой пылью безразличия (какие глаза, какой в них укор!) и с этим зноем, густеющим час от часу.
Для вас это просто 18 августа какого-то года. Для меня же, если я верно запомнил (неужели я уже праздную его годовщину?), это день того лета, когда я окончательно проникся истиной, что все вокруг меня умирает (и я умираю): исчезают виды животных, которых человек не сможет воссоздать, морские пляжи омываются супом из гонококков и дизентерийных бацилл. То же самое происходит на берегах рек: нечистоты из канализационных труб плавают в их водах и выносятся на прибрежный песок, где по воскресеньям царят сардины и дешевое вино, бедная и грубая речь тех, для кого жизнь с настоящим воскресением все откладывается и откладывается; они отдыхают на пляжах с пикниками, инфекционной желтухой и полиомиелитом, в дешевых кинотеатрах, где синий полумрак позволяет дать волю рукам и осязать прелести какой-нибудь случайно подвернувшейся девицы (встречи родственных душ бывают редко), создавая иллюзию уединения…
Этим людям неведомы призраки, что отрывали меня от книг или захлестнувшей меня страсти, врывались в мое ночное отчаяние, заставляли забыть о головной боли и воскрешали надежды на лучшее будущее, которое еще не пришло, но которое я должен неустанно видеть где-то впереди, потому что без этого для меня нет жизни…
Ах, эти призраки! Ты — например, ты собиралась замуж, а всего лишь за две недели, жалкую кроху времени, до столь важного события ты настаивала, чтобы я оценил красоту твоих стихов, написанных для себя самой, и нежность твоего еще нетронутого тела. Если бы ты при этом спросила: «Что ты обо мне думаешь?» Или стала бы уверять: «Я еще никого не любила!» — ты безвозвратно загубила бы хрупкую чистоту мгновения.
Я все больше убеждаюсь, что жизнь объяснить нельзя; а меж тем только и делаю, что пытаюсь понять ее и объяснить. Но я впадаю в это противоречие именно потому, что «жил» — в этом мое преимущество, — мне дано было познать голод, дальние дороги, тюрьму, любовь, согласный ритм любовных объятий. Видел я и нежность настежь распахнутой души, и игру случая, и тайну, и призрачные видения с закрытыми глазами и обнаженным телом. Май 1968 года столько принес нам… Он вернул нам молодость.
* * *У кого есть биография? А у кого ее нет? Наконец, что значит иметь биографию? Испытать, пережить, перестрадать какие-то сложные перипетии? Вспоминать губы, которые ты целовал в минуты счастья, и покрасневшие от слез глаза в другие минуты? Вспоминать умильные лица хозяев, с которыми мы расстались, чтобы продолжать «быть»? Быть, но чем? Наша гордость тем, что мы — чистые, что высоко держим голову и умеем плавать на волнах иронического нигилизма, — это гордость касты. Разве не так? А если еще известность, откуда выходишь увенчанный лицемерием и разочарованием? Выигранные битвы, удачные сделки, заслуженная и незаслуженная слава, эффектные великие страдания?